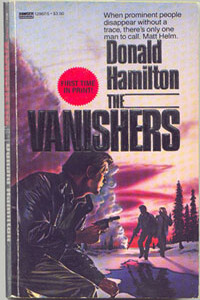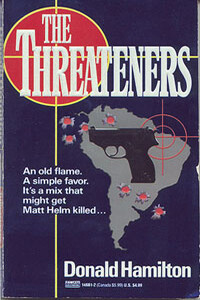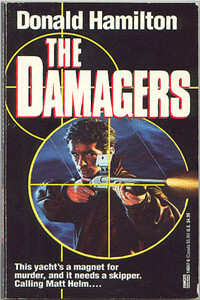— Смотри, не забыл! — оживился Эшши-хан, хорошо помнивший отцовский рассказ. — Только не на трясогузку, а на болотную лунь, трусливую и бестолковую! Проснется поутру, расправит крылья, размечтается: «Эх, куланом бы позавтракать! Сейчас поймаю!» Взлетит, покружится, увидит кулана, а броситься на него не решится, струсит и сядет на дерьмо, оставленное животным. Будет им довольствоваться...
— Ты сам, Эшши, все и сказал. Никто не ведает, когда сюда придут немцы, но я точно знаю, что твои нукеры — сыновья именитых людей: баев, торговцев, домовладельцев... Проиграешь, ответ перед ними будешь держать. А такие люди проигрыш не признают. Кому хочется сына или брата без всякой выгоды терять? Не мне тебя учить. Отмерь семь раз...
Эшши-хан был в смятении. Как не подумал о том раньше? Ишан Халифа задумал обвести его вокруг пальца: одержит отряд победу, припишет ее себе, потерпит поражение — все взвалит на Эшши-хана. Не выйдет!
Пушечные выстрелы застали Ходжака на окраине Герата, по пути к султанской гробнице. Придерживая сильной рукой застоявшегося коня, он скакал по древней гератской дороге, обсаженной могучими гималайскими кедрами. Как хотелось бросить все — и роскошь ханского дома, и подаренного им коня, и расшитый золотом хивинский халат, только бы скакать без передыху, пока не доберешься до родного очага... И вдруг, увидев мутный арык, заросший камышом, и большеколесную арбу с задранными в небо оглоблями у изгиба дороги, ему показалось, что он дома: так похоже на родные картины Бедиркента. Он потер глаза: «О аллах! Я дома?» И он всем своим существом понял, какое это счастье — просыпаться поутру в своем доме, слышать голоса своих детей, встречать родичей, друзей, дышать родным воздухом...
И какая-то сладкая истома охватила все тело, как бывало в далеком детстве, когда по весне Ходжак уходил за аул, зарывался босыми ногами в теплый песок и лежал, пока не приходило время гнать овец домой. А во дворе мать уже доставала из тамдыра чуреки, отламывала ему добрый кусок, и он, обжигая губы, впивался зубами в золотистую хрустящую корочку. Мать трепала по голове, спрашивала, чем он занимался, собрал ли дров, накосил ли травы, напоил ли скотину... Он отвечал ей, глядя в глаза, всю правду — не надо было ни хитрить, ни изворачиваться. Какое это счастье! Было ли оно?..
У обочины дороги Ходжак заметил две медные пушки, рядом — худощавого афганца с сабельным шрамом на лице, полученным в схватке с англичанами. Тот уже спрятал в карман трофейного френча карманные часы, по которым запаливал фитиль. И так всякий полдень, с той самой поры, когда афганцы изгнали со своей земли англичан, отобрали у них медные орудия, теперь возвещающие на всю округу о часе полуденной молитвы. «Странно устроен этот мир. — Ходжак повернул коня в сторону невысоких гор, что возвышались на фоне оголенных крон платанов, стройной арки, украшавшей гробницу. — Двести лет афганцы воевали с чужеземцами, насилу избавились от них. А теперь такие, как Ишан Халифа и Эшши-хан, собираются бросить Афганистан, Туркмению под пяту германского сапога. На все готовы, лишь бы вернуть свои богатства, власть. Как те злобные, одичавшие псы, рвущие друг друга, никого не пощадят...»
Вот и гробница султана Шахруха, сына и преемника Тамерлана. Она высечена из большой глыбы черного мрамора, украшена замысловатым орнаментом в форме цветов причудливых растений. Рядом мавзолей Говхерша Бегум ханум, жены Шахруха, облицованный изнутри голубоватыми изразцами и белым мрамором, с изречениями из Корана.
Как-то Мадер, пытаясь раззадорить иранских туркмен, сказал: «В крови Тамерлана больше туркменского. Его сын Шахрух жил в Герате в окружении туркмен, а не узбеков. А вообще-то узбеки молодцы! Они создали Тамерлановский батальон, и его джигиты львами сражаются против русских. Неужели это не задевает вашего самолюбия, вас, потомков славного сельджукида Султана Санджара? И вы, туркмены, так легко отдаете узбекам своего Тамерлана, считавшего Султана Санджара своим праотцом...»
Вон куда гнул Мадер: подогревая чувства национальной кичливости, он хотел, чтобы туркмены создали батальон Санджара. «Подкиньте эту идею Ишану Халифе, — посоветовал он Ходжаку, собиравшемуся в Афганистан. — Немцы любят символы. Это первый признак высокой культуры нации».