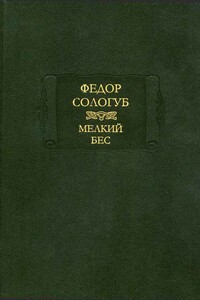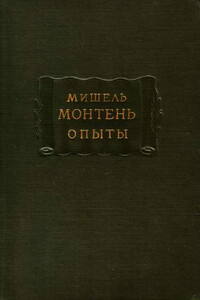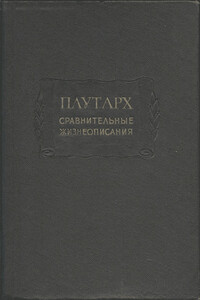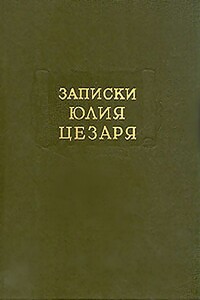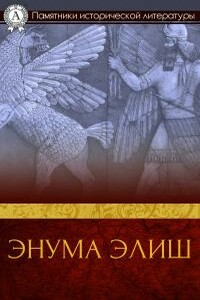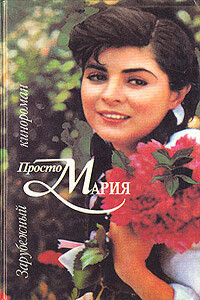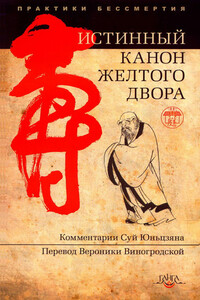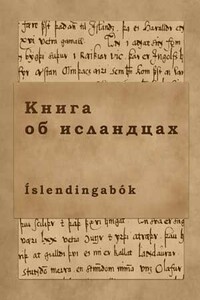Раскаяние Фауста мотивируется по-разному. Старая форма, существовавшая, вероятно, в немецкой драме XVII века, сохранилась лишь в некоторых австрийских текстах, где в роли благочестивого старца народной книги выступает старик отшельник (Klausner). В нидерландской пьесе его заменили студенты Фабриций и Альфонс, которые в начале драмы принесли Фаусту магическую книгу, став тем самым его невольными пособниками. У Гейсельбрехта эта роль перенесена на благочестивого, в противность традиции, Вагнера, который решает расстаться со своим господином, чтобы не быть соучастником его греха. В большинстве других кукольных комедий сцена существенным образом перестроена: раскаяние овладевает Фаустом после разговора с Мефистофелем об адских муках и райском блаженстве. При этом в одних текстах Мефистофель отказывается ответить Фаусту на вопрос о блаженстве праведных в раю, в других о том, может ли он еще получить прощение: все это — вопросы, для Мефистофеля запретные ("враждебные аду", как говорится в другом месте у Марло). В версии Шютц-Дрэера на вопрос Фауста об адских муках Мефистофель вынужден признать, что муки эти "так ужасны, что черти взошли бы на небо по ступенькам из ножей, если бы у них оставалась еще надежда" (Тексты, IV, стр. 187): образ, который повторяется также в некоторых других текстах (аугсбургском, страсбургском).
Разговор этот восходит к богословским "прениям" между Фаустом и Мефистофелем, столь многочисленным в народной книге Шписа (см. выше, стр. 294), которые нашли свое частичное отражение и у Марло, главным образом в комплексе сцен, связанных с договором; однако текст кукольных комедий, в особенности ульмский, ближе напоминает Шписа (гл. 16-17) [588]. Немецкая драма использовала этот разговор в развязке, соединив его с волновавшим благочестивого зрителя вопросом о возможности спасения раскаявшегося грешника. Ответы Мефистофеля открывают Фаусту возможность такого спасения, он решает покаяться и молит бога о прощении, но Мефистофель снова соблазняет свою жертву обманом чувственных наслаждений — видением прекрасной Елены, которая станет его возлюбленной.
Марло в эпизоде с Еленой следует за народной книгой: Фауст вызывает Елену по просьбе студентов, потом он сам требует от Мефистофеля, чтобы тот дал ему насладиться любовью прекраснейшей женщины древности, в которой герой Марло видит воплощение высшего идеала чувственной земной красоты. Сцена появления Елены и здесь предшествует трагической развязке. В немецкой драме в отличие от Марло Елена появляется, вызванная Мефистофелем, как дьявольское искушение, чтобы заставить Фауста отказаться от последней надежды на божественное милосердие; соблазнив его, она обращается в его объятиях в адскую змею или в бесовскую фурию.
В австрийских и чешских кукольных комедиях раскаяние Фауста в сцене, предшествующей появлению искусительницы Елены, мотивировано католической по своему происхождению легендой, наиболее полно представленной в народной балладе (см. выше, стр. 307). Фауст требует от Мефистофеля, чтобы он изобразил ему на картине крест и на нем распятого Христа. Мефистофель отказывается выполнить непосильную для него задачу (для этого нужна помощь "четырех тысяч чертей"), Фауст грозит расторгнуть договор, наконец Мефистофель приносит Фаусту картину, но на ней не хватает надписи над головой распятого — INRI ("Иисус Назареянин Царь Иудейский"), потому что дьявол не может ни произнести, ни начертать эти святые буквы: они "прогоняют злых духов на 300 миль". Фауст произносит магические слова, Мефистофель в страхе бежит, Фауст падает на колени перед распятием. Следует сцена с Еленой (в некоторых текстах она носит модернизованное латинское имя Meretrix, т. е. распутная женщина: ср. русское Милитриса).
Иногда требованию Фауста предшествует разговор с Мефистофелем, в котором, также в соответствии с балладой, упоминается о полете над Иерусалимом, когда Фауст, увидев крест или образ распятого Христа, захотел ему поклониться, а Мефистофель пригрозил тут же разорвать его на части или утопить в море. Встречаются отголоски и других мотивов народной баллады (постройка мостовой, игра в кегли на Дунае, стрельба в черта)