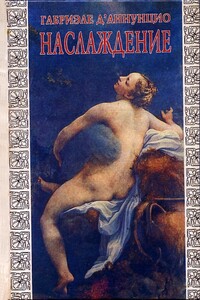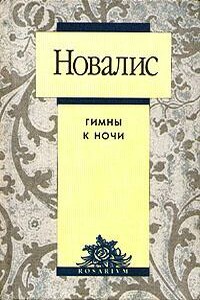— Ах, Туллио, это ты?
Она произнесла эти слова обычным голосом. И — что было для меня неожиданностью — я также мог говорить.
— Ты спала? — спросил я, избегая глядеть ей в глаза.
— Да, я заснула.
— Значит, я разбудил тебя… Прости… Я хотел открыть тебе рот… Я боялся, что тебе трудно дышать, что ты задохнешься под одеялами.
— Да, это правда. Мне теперь тепло, даже жарко. Сними с меня несколько одеял, прошу тебя.
Я встал, чтобы исполнить ее просьбу. Я не могу теперь определить то состояние моего сознания, которое сопровождало мои движения, припомнить слова, которые я произносил и слышал; все, что происходило тогда, было так естественно, словно ничто не изменилось, словно мы с Джулианой находились в неведении и безопасности, словно там, в глубине этого спокойного алькова, не таились — прелюбодеяние, обман, угрызения совести, ревность, страх, смерть, все ужасы человеческой души.
Она спросила меня:
— Теперь очень поздно?
— Нет, еще не пробило двенадцать.
— Мама пошла спать?
— Нет еще.
После минутного молчания:
— А ты… еще не идешь? Ты, вероятно, устал…
Я не находил ответа. Должен ли я ответить, что остаюсь? Просить ее позволить мне остаться? Повторить ей нежные слова, произнесенные мной на кресле, там, в Виллалилле, в нашей комнате? Но если бы я остался, как провел бы я эту ночь? Сидя на стуле, не смыкая глаз, или в постели, рядом с ней? Как я держал бы себя? Мог ли бы я притворяться до конца?
Она прибавила:
— Тебе лучше уйти, Туллио… сегодня… Мне больше ничего не надо; мне ничего не надо, только покоя. Если бы ты остался… было бы хуже. Тебе лучше уйти сегодня, Туллио.
— Но тебе может понадобиться…
— Нет. К тому же, на всякий случай, рядом спит Кристина.
— Я лягу тут, на кушетке, и лишь прикроюсь одеялом…
— Для чего тебе мучиться? Ты очень утомлен, это видно по лицу… Кроме того, если я буду знать, что ты здесь, я не засну. Пожалуйста, Туллио! Завтра утром, как только ты встанешь, зайдешь ко мне. Теперь мы оба нуждаемся в отдыхе, в полном отдыхе.
Ее голос был слаб и ласков; ничего необычного не слышалось в нем. Кроме настойчивого желания удалить меня, ничто не указывало на мрачную решимость. Она казалась измученной, но спокойной. То и дело она закрывала глаза, словно сон отягощал ее веки. Что делать? Оставить ее? Но именно спокойствие ее пугало меня. Ведь это спокойствие могло быть следствием твердой решимости. Что делать? В конце концов, даже мое присутствие ночью могло бы оказаться бесполезным. Она отлично могла бы осуществить свое намерение, подготовившись заранее, имея под руками средство. А это средство — в самом деле морфий? И где она спрятала флакон? Под подушкой? В ящике ночного столика? Как искать его? Для этого нужно повести все начистоту, прямо заявить ей: «Я знаю, что ты собираешься убить себя». Но что последует за этим? Уже нельзя будет скрывать остальное. И что за ночь будет после этого? Все эти колебания истощали мою энергию, изнуряли меня. Нервы мои ослабевали. Физическая усталость становилась все более и более тяжкой. Весь мой организм делался жертвой того крайнего изнеможения, когда все сознательные функции его почти прекращаются и движения перестают соответствовать друг другу. Я чувствовал себя неспособным дольше сдерживаться, бороться, действовать каким бы то ни было осмысленным образом. Сознание своей слабости, сознание неизбежности всего того, что происходило и еще произойдет, парализовало меня. Все мое существо, казалось, поразил внезапный удар. Я ощущал слепую потребность освободиться от последних, темных остатков сознания. И наконец вся моя тоска вылилась в одну отчаянную мысль: «Пусть будет, что будет, и для меня есть смерть».
— Да, Джулиана, — сказал я, — я тебя оставлю в покое. Спи. Мы увидимся завтра.
— Ты еле стоишь на ногах!
— Да, правда; я очень устал… Прощай! Покойной ночи!
— Ты меня не поцелуешь, Туллио?
Дрожь инстинктивного отвращения пронизала меня. Я колебался. В эту минуту вошла моя мать.
— Как? Ты проснулась? — воскликнула она.
— Да, но сейчас я опять засну.
— Я ходила взглянуть на девочек. Наталья не спала и тотчас же спросила меня: «Вернулась мама?» Она хотела прийти…