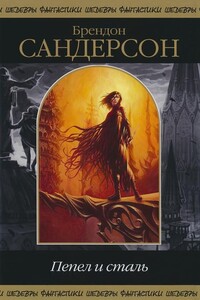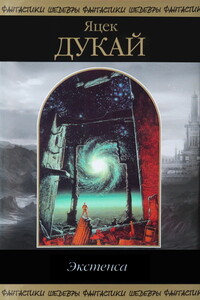Лёд - страница 24
…Приехали двоюродные родичи Тржцинские и дядя Богаш, и родственники матери из Западной Пруссии, и множество народу, которого никогда я раньше не встречал, пока поместье не превратилось в чужой дом, заполненный посторонними людьми, незнакомыми голосами, где все были одинаково и хозяевами, и гостями. В большом доме и домике лесника крутились целые семьи, с детьми, слугами, собаками и детьми слуг. Поначалу все это было таким возбуждающим — чтобы увидеть что-то новенькое, обычно необходимо ездить на ярмарки, в город, а тут новое приезжало к нам; люди, которых мы не знали, одежды, которых не видели, язык, который не слышали — ни польский, ни немецкий, ни французский или же латынь; как-то раз в грохоте и вони под поместье подъехал автомобиль — это уже был праздник, мы с благоговением гладили блестящую carosserie[28]; Андруха прогонял нас, крича с крыльца… Но через пару дней это уже наскучило, победила усталость от постоянного напора развлечений; я уже не различал родственников, не считал гостей — то ли они только что приехали, то ли возвращались с прогулки на озеро; я валялся на самом верху сеновала, поглядывая на двор через дырку от сучка, и засыпая так в прохладном сене, пока под лестницей не появлялась мать, которая всегда знала, где мы находимся, и это уже было время мыть руки и садиться ужинать.
…На неделю-две с родственниками приехала и Юлька; мы даже игрались вместе. Не помню, как она тогда выглядела; сама говорит, что была тогда неуклюжим ребенком — зато помню, что пани Алисия всегда исполняла ее даже самые мелкие капризы. Помню, как спрашивал я у матери, не могла бы Юлька остаться с нами подольше — насколько легче стали бы уроки, если бы гувернантка хоть отчасти прислушивалась к нашим просьбам. По-видимому, мать сохранила это в памяти как доказательство моей к Юльке симпатии.
…Эмилька тогда еще была жива, она таскалась за нами повсюду, а за ней ходила хромая такса Мигалка — они останавливались подальше и присматривались к нашим забавам огромными, влажными глазами. Сад, в особенности, годился для игр в прятки, в индейцев и ковбоев, в войнушку. Нас гонял только сгорбленный до земли татарин Учай, который всякий день обходил рощи, обнимая стволы деревьев и лаская гибкие веточки, только-только появившиеся листочки. Старшие дети, дети приезжих жестоко передразнивали его. Он грозил им березовой палкой. Для Эмильки у него в кармане всегда были конфеты-тянучки; Юлька это подсмотрела и тут же начала подлизываться и ласкаться, строить голубенькие глазки и покусывать косички — пока старик ее не прогнал. Она целый день потом дулась.
…Отец появился лишь тогда, когда совещания рода уже шли к концу, когда часть гостей уже вернулась к себе домой. Склонившись над кроватью — тень в лунном свете — как-то вечером он шепнул мне: «Болек, я приехал!» — и помню, что целую ночь потом я не мог заснуть, лежал с широко раскрытыми глазами, вслушиваясь в протяжное дыхание дома и шепот ночных насекомых. Отец приехал! Увидел я его утром, гневно кричащего на собравшихся в салоне родичей; мы подглядывали через окно, пока мать нас не прогнала. Не помню уже, что я помнил ранее — то ли отец отличался от представления об отце, или же он слился с ним в одно в моей памяти, так что никакие другие черты уже не могли его изменить, в сорочке или сюртуке, с бородой или без нее, кричащий или смеющийся, здоровый или болезненный, тот или иной — Отец. Поскольку мы видели его так редко, раз в несколько месяцев, насколько же сильнее я должен был помнить свое представление о нем. Если бы он не появлялся вообще, лишенный тела, голоса, лица и черт характера, был бы он менее правдивым? Существование вовсе не является обязательным атрибутом хорошего отца.