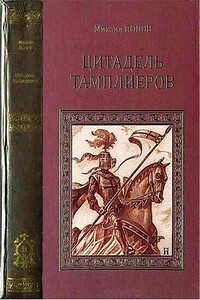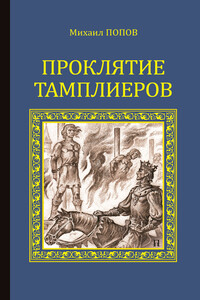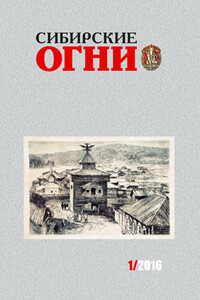Ей было приятно сознавать, что она может смотреть то, что не может смотреть подавляющее число граждан Союза. Что она на переднем крае мирового художественного прогресса. Ей, в общем–то, нравились эти ребята, несмотря на их тотальный, поголовный, неутомимый антисоветизм. Было что–то даже удивительное, для нее, выросшей в плотной идейно–выдержанной атмосфере провинциального института, и правильной советской семьи, в здешнем мире полной, даже вызывающей свободы от всего советского. Нет, анекдоты о партийных вождях она слышала и раньше, и в Гродно, и уже здесь, но они всегда подавались как что–то чуть запретное, немного шепотом, один на один, или в очень узком кругу, для своих. Вокруг каждого анекдота как бы стоял плотной стеной советский срой, самодовольно уверенный в своей незыблемости.
Как раз в разгаре ее борьбы за чистоту в квартире Янтаревых, состоялись похороны Брежнева. Ларисе очень понравилось на похоронах. Колонна их института собралась возле здания «Известий», чтобы двинуться мимо кинотеатра «Россия», по Петровке к Колонному залу для прощания с вождем.
Великолепная атмосфера царила в толпе. Много шутили, смеялись, то там, то там всплывали откупоренные бутылки портвейна. Преподаватели и не думали мешать всеобщему веселью. Леонида Ильича хоронили не как тирана, долго–долго заедавшего век своей страны, а как старого дедушку, мирно отошедшего в иную жизнь. Радость была не злорадная, не мстительная. И вместе с тем, было несомненное ощущение, что мы остаемся там же где и были, в Советском Союзе, и будет продолжаться то, что было до этого, только без Брежнева.
А в академической квартире была территория принципиально свободная от всего советского, правилом было как раз пренебрежение к строю, вождям и правилам обычной жизни. Более того, ко всему этому относились как к чему–то извращенному, неестественному, нелепому на стороне чего стоять просто глупо. Лариса не то чтобы слилась с атмосферой, просто отметила про себя, что о некоторых вещах не сможет говорить с папой и мамой, когда встретиться ними.
И Элеонора Витальевна и Нора подвизались в советских учреждениях, других просто не было, а сам академик был все же сугубо советским академиком, но в это не создавало в доме никакого двоемыслия. Советская власть нам что–то дала, да попробовала бы она не дать! После всего, что она сделала с нами! Что именно, уточнять было не принято. Само собой разумелось, что она виновата весьма.
Лариса лишь по каким–то проговоркам, косвенным замечаниям узнала про репрессированного брата академика, про мытарства, которые пришлось претерпеть семейству, прежде чем оно осело на арбатской отмели.
Она терпеливо переносила Раулеву любовь. Кстати, дома его звали Рулей. При всей своей субтильности молодой человек обладал значительными половыми потребностями. И был готов к их удовлетворению в любое время дня, и, конечно, ночи. Ларисе приходилось все время быть в готовности, она понимала, что на этом этапе их отношений приемы увиливания не годятся, никакая «голова болит» не пройдет. Не то, чтобы ей было неприятно то, что делал с нею Руля, он был старательным, даже угодливым любовником, но все равно она каждый раз скорее претерпевала близость, чем наслаждалась ею. Каких бы результатов не добивался Руля от ее тела, в сознании оставалась непроницаемая перегородка, за которой сохранялась в неприкосновенности при любых оргазмах организма некая область трезвости, она помнила, что все это «для», а не само по себе.
Рауль же был по видимости вполне счастлив. Убегая утром по неотложным делам, он с сожалеющим ноем сползал с подруги, и, натягивая джинсы, бормотал, что уже соскучился, и назначал свидание на вечер. Подбегал поцеловать напоследок и шептал, обхватывая ее за ослепительные плечи худыми и сильными как у орангутанга руками: «слонышко мое!». Уменьшительное от «слона».
Лариса не обижалась, ибо была объективно крупновата для него, расслаблено улыбалась ему, прикидывая какой участок квартиры сегодня подвергнуть своей атаке.
Рауль к Ларисе относился хорошо, этого нельзя не признать. Почти каждый день приходил домой с каким–нибудь презентиком. Очки, майка, жвачка. Когда в доме собирались его друзья, старался выставить Ларису как бы вперед, осторожно хвастаясь. Понимал, что было чем. И приятели бурно и искренне восхищались подругой друга. Лариса была нарасхват. В том смысле, что ее желал цапнуть лапой почти каждый. В коридоре, особенно, когда она пробегала по нему с блюдом в руках и была практически беззащитна, под столом, там она все время ощущала уколы чьих–то колен, и особенно на кухне, куда ей все время приходилось отлучаться к плите. Там все время дежурил, якобы вышедший покурить, дружок, и тут уж приходилось не только уворачиваться на бегу, но и жестко выставлять локоть, или двигать дюжим бедрышком.