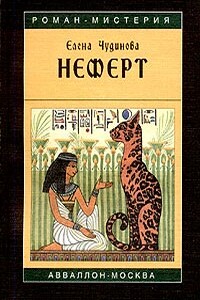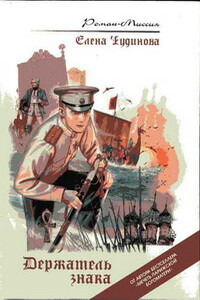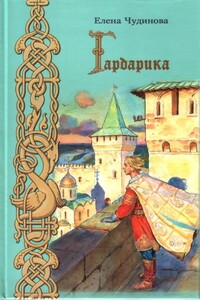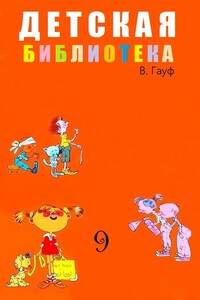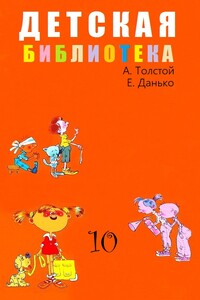— Эй, господин Сирин! — тихонько позвала Нелли.
Верно, заточенный находился где-то близ окна, поскольку бледное лицо его тотчас явилось почти под самой кованой решеткою. Он взялся за прут свободной теперь рукою.
— Кто спрашивает меня?
— Я.
— А, мальчик-девочка, — Сирин слабо улыбнулся.
— Мне показалось, Вы хотели мне сказать что-то. — Нелли, сидя на корточках, глядела на Сирина сверху вниз.
— Глупо, быть может… Глупей некуда. Теперь уж ничего не изменишь. Никто не поверил мне, ни одна душа, да и сам я, повествуя, слышал словно бы со стороны, сколь нелеп мой рассказ. Сам я предстал опасностью, от коей столь наивно тщился предостеречь. Мне объявили ужасную мою участь. Но отчего легче мне будет покориться ей, если хоть одна живая душа уверится в моей невиновности? Сейчас передо мною последний мой судия на земле. Дитя, ты сможешь мне поверить?
— Быть может, да. — Нелли задумалась. — Но даже коли я поверю, я не стану отворять этого засова. Я мало еще знаю в жизни, худо понимаю людей. Меня проще обвести вокруг пальца, чем тех, кто борется со Злом всю жизнь. А здесь вить нету замка даже на двери узилища. Выходит, всякому, кто по другую сторону двери, в стенах Крепости полная вера. Важней всего для меня ее не обмануть.
— Так вить я не прошу помощи! — с горячностью воскликнул Сирин. — Мыслимо ли отягчить бременем подобной ответственности неокрепшие рамены?! Но ты обяжешь меня, коли выслушаешь, а если вдруг и поверишь мне, подаришь великую радость. Ты выслушаешь мою историю?
— Говори! — Нелли подумала невольно о том, что ее странствие началося с истории Филиппа, тогда как Парашино — с истории княгини. Сколько же всяких рассказов довелось им выслушать с минувшего лета! Пожалуй, люди не меньше иной раз интересны, чем камни. Вот уж странная мысль! Впрочем, вить и камни тож говорят о людях.
— Дай только собрать мысли, — отозвался из полумрака Сирин. — Там, на суде, я говорил лишь то, что представлялося важным. Теперь же хотелось бы мне раскрыть душу.
Последовало молчание. Нелли огляделась по сторонам: улица казалась пустою, только слышно было, как кто-то невдалеке колет дрова. Бродили пестренькие куры, поклевывая что-то в ярко-изумрудной первой траве: Нелли только сейчас приметила, что она уж появилась.
— Батюшка мой, Василий Сирин, был человек старый, лучшие годы свои положивший на службе, и лямку начал тянуть еще при Государыне Елисавете Петровне, — начал Сирин, как показалось Нелли, уж слишком издалека. — Младший сын в семье, он ничего не имел за душою, кроме положенного жалованья, и не помышлял о браке, полагая жизнь при казармах нелегкою для прекрасного полу. Быть может, судьба бобыля и вовсе его не страшила. Был он человеком простых привычек, ревностен к службе и скромен в тратах, а также начисто лишен предосудительного стремления к картам и пирушкам. Не презирал он ни чиненого мундира, ни латаных сапог и редко справлял обновы, хотя кошелек его всегда был для товарищей завязан не туго. Сообразно тем временам, не мог он похвалиться ученостью. С такими людьми и скушновато, да надежно. Дослужившись до секунд-маиора, батюшка захотел отставки. Тут-то и обнаружилось вдруг, что за долгие годы скопилось изрядное состояньице. По солдатской манере долго не раздумывать, он тут же приобрел небольшое именье Груздево под Серпуховом. Барский дом стоял наполовину заколочен и изрядно обветшал, однако ж рукой было подать до Оки — местное же уженье голавлей превозносили до небес. Сущий парадиз для холостяка! Однако ж вскоре отцу стало не до голавлей. Шестнадцатилетняя Сонюшка, сирота-бесприданница, приживавшая в соседнем имении, заставила убеленного сединами воина забыть и псарню с голубятней, пасеку и прочие непритязательные приятства сельской жизни. Сие и была моя мать. В отличье от отца, она находила большое утешение от подневольного своего положения в книгах. Пересчитавши простыни, спешила она спрятаться в укромном уголке с «Памелою» либо другим чувствительным чтеньем. Немудреные повествованья батюшки о тяготах военных походов тронули ее сердце. Родственники ж, хоть и не рады были терять услужливую помощницу, чинить препятств не стали, и вскоре чета стояла уж под венцом. Заброшенный дом переменился, словно по волшебству! Стучали топоры и молотки, пахло краскою и побелкой, заросший крапивою цветник ожил и благоухал. Вскоре в благоустроенных горницах раздался и детский плач — родился я. Слуги рассказывали, что батюшка, увидевши наследника, плакал и молился сутки напролет, сам не веря, что Господь послал ему на старости лет столь полное щастье. Однако длилось оно недолго.