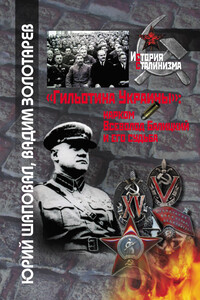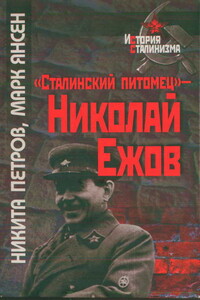Лапти сталинизма - страница 29
Наконец, говоря о поддержке коллективизации в северной деревне, следует учитывать и низовой энтузиазм. Так, жители деревни Быстрокурье Холмогорского района, отвечая на вопрос о том, почему они не оставляют в домашнем хозяйстве по одной корове, разрешенной уставом сельхозартели 1930 года, говорили: «Раз уж пошли в колхоз, так нужно его и укреплять. А одна корова будет только связывать»[155]. Порою столь похвальные с точки зрения власти коллективистские устремления принимали полуанекдотические формы, и тогда объектами обобществления становились личные вещи, хозяйственные инструменты и даже нательное белье. Некоторые наиболее ревностные сторонники коллективизации пытались распространить полученный в ходе «социалистической реконструкции хозяйства» опыт и на сферу сексуальных отношений. В частности, председатель коммуны «Первомайская» на этой почве домогался своих колхозниц, а руководитель колхоза «Нива» вынес на собрание членов вопрос о некоей девице Антоновой и предлагал наказать ее только за то, что она имела близкую связь с крестьянином, не входящим в их колхоз[156]. Впрочем, следует признать, что отчасти такие эксцессы объясняются простым незнанием сельскими организаторами принципов деятельности колхозов.
Сколь бы бодрым по отношению к коллективизации ни было настроение составителей советской политической отчетности, тем не менее политические сводки и докладные записки содержат значительно больше информации о неприятии крестьянами хозяйственного аспекта пропагандистского концепта сталинской «революции сверху». В конце 1929 года и особенно зимой и в начале весны 1930 года крестьянский протест против коллективизации и раскулачивания принял почти всеобъемлющий характер. В это время на селе происходят массовые избиения колхозников, убийства и избиения представителей советской власти, разворачивается настоящая охота за сельскими активистами, поджигаются колхозные постройки, уничтожается имущество коллективных хозяйств, в отдельных случаях происходят массовые выступления крестьян. Массовое сопротивления коллективизации сегодня подтверждается во всей современной литературе. Но что стояло за этим сопротивлением? Ведь по наблюдениям известного историка-антрополога Н. Земон Дэвис даже самые жестокие акты насилия имели свою прагматическую основу