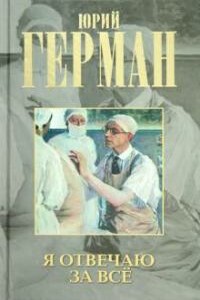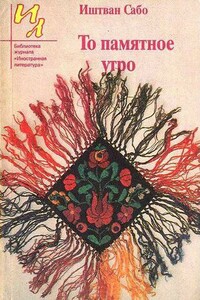— А, пустяки! — сказала она, и Лапшин понял, что вовсе не пустяки.
Помолчали.
— Вы идите, — сказала Адашова, — развлекать меня не нужно!
Выйдя, он слышал, как она заперла дверь на крючок. Во втором действии она играла ровнее, но не лучше, и в антракте Лапшин не пошел к ней, а сидел в буфете с Окошкиным и Варей и слушал, как Васька рассуждал, что верно артистами подмечено, а что неверно. Подошел Побужинский, попросил у Васьки гребенку и, поправляя пробор, сказал:
— А наш Захаров изумительно дал типа! Верно, товарищ начальник? И вообще я считаю, что они у пас очень поднатерлись, артисты. Верно?
— Садись, Побужинский! — сказал Окошкин. — Тяпнем крем-соды…
Все третье действие Лапшин сидел в глубине ложи, подперев подбородок кулаком, и деловито глядел на сцену. Адашова казалась ему больной, измученной, и он сам почувствовал себя измученным и жалким. В антракте он ходил по фойе, и по курительной, и по коридорам и жадно слушал, как говорили о спектакле, Адашову никто не упоминал, только Васька многозначительно произнес:
— А публичной женщины тип не удался! Не подметила она чего-то.
Он постеснялся сказать «проститутка» — слишком уж торжественная была обстановка. Когда поднялся занавес и началось четвертое действие, Лапшина кто-то окликнул. Он встал и вышел из ложи. Захаров, уже без грима, сказал ему, чтобы он зашел к Адашовой.
— Пойдите, пойдите! — говорил он Лапшину, дружески касаясь пальцами его портупеи. — Пойдите, ей там грустно…
Лапшин быстро обогнул по коридору зрительный зал и пролез в маленькую дверцу, ведущую за кулисы. Адашова сидела у себя в уборной перед зеркалом и плакала, громко сморкаясь и откашливаясь.
— Ничего я не больная, — ответила она. — Здорова как корова, просто настроение такое!
Она повернулась к нему и, не стесняясь своего некрасивого сейчас и жалкого лица, мокрого от слез, спросила:
— И вам небось уже стыдно за меня? Стесняетесь там, что столько времени на меня потратили? Да?
Он хотел сказать, что не стесняется, и что любит ее, и что нет для него дороже человека, чем она, но только кашлянул и поджал немного ноги.
Адашова всхлипнула и попросила его, чтобы он больше не ходил в зал и не глядел спектакль, а чтобы он подождал ее здесь. Она ушла играть дальше, а он пересел на ее место перед зеркалом и долго рассматривал принадлежности для грима: баночку с вазелином, растушовку, кисточки и большую лопнувшую пудреницу. Со сцены смутно доносились голоса, грянул одинокий выстрел. Лапшин послушал, подумал, вынул из кармана кусочек сургуча, растопил его на спичке и, слегка высунув язык, стал залеплять полоской сургуча лопнувшую пудреницу. Делал он это с присущей ему аккуратностью и точностью, и выражение его ярко-голубых глаз было таким, как в бою, когда он стрелял из винтовки по далекому врагу.
Заклеив пудреницу, он взял ее в левую руку, отставил далеко от себя и оглядел работу с некоторой враждебностью.
Домой он провожал Адашову пешком. Шли молча. Лапшин нес ее чемоданчик и курил.
— Знаете, почему я провалилась? — спросила Адашова.
— Ну почему?
— Потому что не было Ханина, — сказала она с раздражением и с отчаянием, и голос ее задрожал. — Не было Ханина, и я провалилась. А если бы он был, то я бы не провалилась…
Лапшин молчал.
— Я это знала, — говорила она, — я больше не могу так, это ужасно, И не уходите! Пойдемте ко мне, я вам чаю дам. Хорошо, Иван Михайлович, миленький?
Он выпил у нее чаю, помолчал с нею, а потом пешком шал домой, морщил лоб и насвистывал:
Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей…