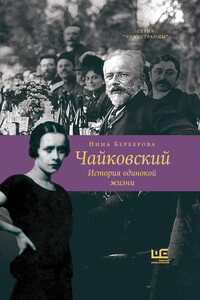Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока... впрочем, не только Пушкина и Блока, но и Огурцова, и Бабкина, и многих других.
Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы о том же самом, рассказанные теми же словами таким же неопытным слушателям, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром. Трудно рассказать об этом людям, его не слышавшим. Сейчас талантливых рассказчиков становится все меньше, поколение, родившееся в этом столетии, будучи само несколько косноязычным, вообще не очень любит слушать ораторов за чайным столом. У Горького в устных его рассказах было то хорошо, что он говорил не совсем то, что писал, и не совсем так, как писал: без нравоучений, без подчеркиваний, просто так, как было.
Для него всегда был важен факт, случай из действительной жизни. К человеческому воображению он относился враждебно, сказок не понимал.
- Да ведь это действительно так и было! - восклицал он с восторгом, прочтя какой-нибудь рассказ или очерк.
- Это было совершенно не так, - сказал он мрачно о "Бездне" Леонида Андреева. - Он присочинил конец, и я с ним после этого поссорился.
А вместе с тем у него не было последовательности, и в одном из его писем (ноябрь 1925 года) можно найти такую фразу: "Я не любил фактов и с величайшим удовольствием искажал их". Что это значит? Только то, что он "поступательный ход" революционного будущего любил еще больше фактов и искажал эти последние в пользу революционного будущего.
Часы показывали второй час ночи. Я слушала. Мне казалось, что я хожу с ним вместе по России, сорок лет тому назад, - с Волги на Дон, из Крыма на Украину. Все было здесь: и нижегородские анекдоты, и время политических преследований, и знаменитое побоище в одном селе, когда он вступился за избиваемую женщину, и начало Художественного театра, и Америка. Руки его лежали на столе, лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято, голос, колеблясь, то удалялся от меня - и это значит, что дремота одолевает меня, то приближался ко мне - и это значит, что я широко открываю глаза, боюсь заснуть. Что делать! Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не положить голову на стол.
Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально.
- Пора спать, - сказал он улыбаясь, - уведите поэтессу.
Художник Ракицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх. В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего два раза на сцене, в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц (он читал перед сном). Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом.
25 сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в полутора часах езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта-на-Одере, а в начале ноября он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала.
"Кронверкская" атмосфера, дух постоялого двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера, по которому однажды Максим уговорил меня пронестись в ветреную погоду под парусом.
"Кронверкская" атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям: уже с утренним поездом из Берлина начинали приезжать люди близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые "свои", которых было не мало.
Я видела из окна гостиницы "Банхоф отель", как шли они с вокзала по вымершим улицам немецкого местечка, где тишина нарушалась только свистом редких поездов, а чистота была такая, что после долгого осеннего дождя улицы казались вымытыми. Недалеко от дома Горького был лесок, где водились лани. Каждая называлась но имени, а деревья стояли под номерами.