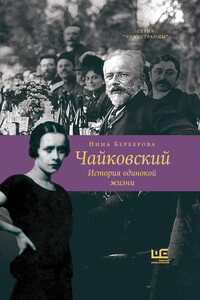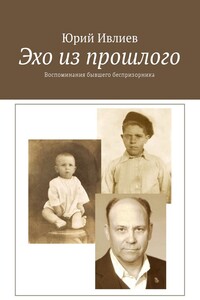Летом 1923 года он приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяевы, Муратов и мы. Шел дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах, под ветром и дождем, вечером смотрели в кино "Доктора Мабузе". У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживленно, с тяжелой тростью Н.А.Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны. Его жена и теща были обе больны коклюшем.
Потом все вернулись в Берлин, и вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда, 8 сентября мы собрались сниматься в фотографии на Тауенцинштрассе, и Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходасевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи (он уехал 10 августа), то встретил в консульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходасевича по этому поводу - не столько, что Белый что-то важное о себе от него скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию. Ни минуты Ходасевич не думал отсоветовать Белому ехать в Москву - Ходасевич открыто говорил, что для него совершенно не ясно, что именно Белому лучше сделать: остаться или вернуться. Он принял, как неизбежное, и возвращение Гершензона, и возвращение Шкловского (после его покаянного письма во ВЦИК, 21 сентября), и возвраще-ние в Москву А.Н.Толстого и Б.Пастернака, и долгие колебания Муратова, который в конце концов остался. Но тревога за Бориса Николаевича была совсем иного свойства: как, где и для кого сможет он лучше писать?
8 сентября утром был сделан групповой снимок (в 1961 году приложенный мною к Собра-нию стихов Ходасевича, изданному в Мюнхене), а вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел, ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом: (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.
- Только не за меня! - сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. - Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.
Белый поставил свой стакан на место и, глядя перед собой невидящими глазами, заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик, разрушал вокруг себя все, не создавая ничего, Бердяев - тайный враг, Муратов - посторонний, притворяющийся своим; все сидящие вокруг вдруг обернулись в его расшатанной вином фантазии кольцом врагов, ждущих его погибели, не доверяющих его святости, с ироническими улыбками встречающих его обреченность. С каждой минутой он становился все более невменяем; напрасно, не слушая его грубостей и не оскорбляясь ими, Зайцев и Вышеславцев старались его угомонить. Он, несомненно, в те минуты увидел себя если не Христом, то святым Себастьяном, пронзенным стрелами, - стены упали, драконы раскрыли свои пасти, и вот он готов умереть - ни за кого! Его повели к дверям. Я в последнюю минуту хотела сжать его руку, на мгновение предать Ходасевича, чтобы только сказать Белому, что он для меня был и будет великим, одним из великих моего времени, что его стихи, и "Петербург", и "Первое свидание" - бессмертны, что встречи с ним были для меня и останутся вечной памятью. Но он, увидев, что я подхожу к нему, весь дернулся, закинул голову, приготовился, как пантера к прыжку... и я отошла или, вернее, - меня оттянули за рукав благоразумные доброжелатели. И больше я никогда не видела его. Он уехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 года. Ему сначала отказали в визе, но затем советский консул переменил свое решение.