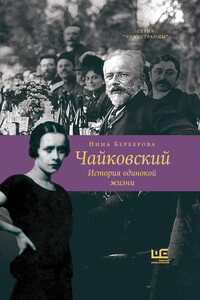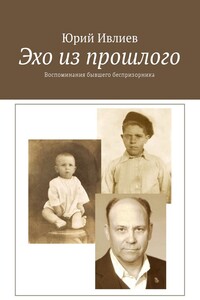Молчала, чего-то боялась, теперь не боюсь. Не верю, чтобы так вот, ни к чему. А если ненужное, значит, обманулась. Ничего, ничего не понимаю, только люблю.
(Подпись)
Мне ясней и ясней путь мой. От каких-то смутных чаяний к осуществлению. Я знаю, что надо пронести через жизнь самое дорогое, самое чистое и святое, что трудно это. Пронести над жизнью и в ней, как чашу. Тогда не страшно. Во мне что-то поднимается надо мной.
Чувствую нити, протянутые к людям. Такая нить к Вам идет. Не обрывайте, не оставляйте ее в пустом пространстве.
Неужели совсем, совсем забыли?"
Третье письмо:
"Дорогой Борис Николаевич, честное слово, мне давно надоело сердиться. Отчего Вы не приходите в Клуб писателей? Отчего Вы такой недобрый? Раньше Вы сами говорили, что я хорошая, а как только я немножко раскапризничалась, сразу рассердились, как будто я взрослая, - на самом деле, право, я только глупый ребенок, искренне к Вам привязанный. Скучаю я о Вас очень и не меньше о всех вещах в Вашей комнате, я так привыкла за время Вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у Вас, как дома. Мне было невыносимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к Вам, за это не надо на меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без Вас грустно, как раз год с тех пор, как мы познакомились, и я все помню по дням и часам... Милый, хороший, Борис Николаевич, простите, что я пишу Вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею, как Ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раньше хотела просто к Вам забежать, но побоялась.
Вера.
Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю-чайнику от меня привет".
Вот три женских письма, от трех разных женщин, они дорисуют картину жизни Белого в Германии в 1921-1923 годах. В одной из корреспонденток есть что-то от злого духа, вторая запуталась в собственной диалектике, третья обезоруживает своей невинностью, но при чтении этих писем становится ясней роль тонкогубой монашки в шерстяном платке в судьбе Андрея Белого. И вероятно, она-то и была ему всех нужнее - включая и Деву-Зарю-Купину.
Белый уехал. Берлин опустел, русский Берлин, другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоном этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами с Муратовым. В противоположность Белому он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других. Стилизация в литературе была его спасением, "декадентству" он открыл Италию. Он был по-своему символист, с его культом вечной женственности, и вместе с тем - ни на кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим около него. Это был не туманный, но прозрачный символизм, не декадентский, а вечный. В своей тишине он всегда был влюблен, и это чувство тоже было слегка стилизовано - иногда страданием, иногда радостью. Его очарования и разочарования были более интеллектуальны, чем чувственны, но несмотря на это, он был человеком чувст-венным, не только "умным духом". Он был щедр, дарил собеседника мыслями, которые другой на его месте записывал бы в книжечку (по примеру Тригорина и Чехова), а он отпускал их, как голубей на волю, - лови, кто хочет. Часть их еще и сейчас живет во мне. Но признания и благодарности он не терпел и любил в себе самом и в других только свободу. Он был цельный, законченный западник, еще перед первой мировой войной открывший для себя Европу, и я в тот год через него узнавала ее. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери, Пруста, Стрэчи, Вирджинии Вулф, Папини, Шпенглера, Манна и многих других, которые были для него своими, питавшими его мысль, всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрассудками его поколения.
Он бывал частым гостем у нас. Одно время приходил каждый вечер. Любил, когда я шила под лампой (о чем есть в его рассказе "Шехеразада", мне посвященном). В записях Ходасевича идет его имя подряд - то рядом с Б.Пастернаком, го с Н.Оцупом, то с Белым. С ним я пережила два моих наиболее сильных в то время театральных впечатления: "Покрывало Пьеретты", в котором участвовал Чабров, и "Принцессу Турандот" (3-я студия MX Г постановка Вахтангова). Чабров был гениальным актером и мимом, иначе не могу его назвать, магия его и яркий, большой талант были исключительны. С ним вместе играли Федорова-вторая (впоследствии заболевшая душевной болезнью) и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля - ничто никогда не врезалось в мою память, как это "Покрывало", - ни Михаил Чехов в "Эрике IV", ни Барро в Мольере, ни Цаккони в Шекспире, ни Павлова в "Умирающем лебеде", ни Люба Велич в "Саломее". Когда Чабров и Федорова-вторая танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился на балкончике (Коломбина его не видит, но Арлекин уже знает, что Пьеро тут), я впервые поняла (и навсегда), что такое настоящий театр, и у меня еще и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шницлеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя, не метафорически, а буквально, что-то делает с ним, меняет его, влияет на всю дальнейшую его жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием. Второе воспоминание - постановка Вахтангова - менее сильно: там было больше конкретного зрелища и меньше иррационального трепета. Между прочим, с Чабровым мы не раз сидели в трактире "Цум Патценхофер" - он был другом Белого (как в свое время и Скрябина).