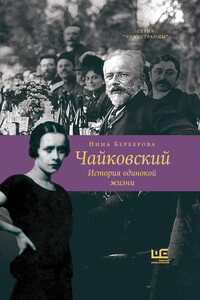Ничего не неизбежно, кроме смерти. И революция не была неизбежна. Двадцатый век научил нас, что нищету и неравенство, эксплуатацию и безработицу преодолевают иначе. В Швеции сто лет тому назад было три короля подряд, вносивших в парламент законопроекты слишком радикальные, и парламент их проваливал, пока парламент не стал столь же радикален, как и сам шведский король, и законопроекты наконец прошли (пенсия на старость). Не "даровать" сверху конституцию надо было, а совместно с оппозицией разработать ее и повернуть туда, где страна могла бы дышать и развиваться; не дворцовый переворот был нужен, а спокойный отказ от всех вообще дворцов и фонтанов, чтобы провести линию между мифом и действительностью. А если несчастные войны были России не по силам, то надо было оставить мысль о великой России раз и навсегда. Только недоразвитые страны делают революции - этот урок был нам преподан двадцатым веком, развитые страны меняются иначе. И я даже могу согласиться с тем, что в шестидесятых годах двадцатого века Россия была бы приблизительно на том же этапе, на котором она находится теперь, но если бы это и оказалось так, то во всяком случае - без насильственной коллективизации, без войны армии, лишенной командного состава, без изничтожения культурного слоя - который и в двести лет не восстановим. Но как богатырю на распутье трех дорог, стране в 1917 году на всех трех путях предстояли испытания: через Корнилова и Деникина, через Троцкого, через Сталина. К этому положению вещей ее привели шесть последних царей.
Цирк Чинизелли, куда меня в раннем детстве водили смотреть ученых собак, сейчас стал местом митингов, и мы ходили туда: Наташа Шкловская записалась в партию левых эсеров (она была позже арестована, после убийства Мирбаха), Надя Оцуп - в партию большевиков (она погибла как троцкистка), Соня Р. - в партию правых эсеров (это она позже покончила с собой), Люся М. - в кадетскую партию (она была застрелена при бегстве за границу). Я в партию не записалась, но считала себя примыкающей к группе Мартова. Мы жарко спорили друг с другом, но знали, что никто никого не переспорит. Мы держались вместе. Остальной класс, за исключением двух-трех тупиц, приблизительно разделился поровну между эсерами и эсдеками.
Экзамены отменили, закон божий ликвидировали. Мы заседали в учительском совете, где тоже были и мартовцы, и ленинцы, и тайные оборонцы. Мы отменили молитву перед началом уроков, повесили на стену в классе портреты Герцена, Плеханова и Спиридоновой. В моем журнале замелькали двойки по физике. Будучи влюбленной в маленького волосатого физика, я в обиде на него находила для себя даже некоторую сладость. Пришлось нагонять, что было нелегко. Рассчитывать на поблажки, видимо, было безнадежно: он вовсе не замечал меня.
Я никак не могу восстановить в памяти, что привлекало меня к этому желтому, сухому, черноглазому, белозубому человеку, ставившему мне плохие отметки. Я думаю, он попался в сеть моего воображения, которое искало, к чему бы ему прилепиться. Физик мне казался загадочным, полуяпонцем, обреченным, злым, жестоким и циничным. Думаю теперь, что он совсем был не таков. Я его выдумала и носилась с моим чувством к нему, оно питало мои стихи, оно бросало меня в жар и в холод. Очень скоро, впрочем, все это прошло, и я с усилием сползла с двоек.
Отношения мои с Виктором Михайловичем Усковым были совершенно другого рода. Он пришел к нам, когда мне было лет одиннадцать, и преподавал естественные науки - ботанику, анатомию, зоологию. Через три года мы ушли от него к физику, но каждое воскресенье утром, в течение двух лет, я ходила к нему в его физический кабинет и там "помогала ему в его занятиях". Знал ли кто-нибудь об этом? Вероятно, знал, я не могла скрыть ни дома, ни от подруг, что "работаю" с В.М., но все относились к этому довольно равнодушно. Обыкновенно я сидела на высоком стуле около препаратов, не спуская с него глаз, а он, препарируя что-нибудь, глуховатым голосом, наклонив высокий, лысый лоб, рассказывал о Бакунине, о Ренане, о Гиббоне, о Шекспире, об Аристофане, о Паскале... И так продолжалось часа два. Иногда он, вымыв руки, садился с полотенцем в руках на стул против меня, и мы сидели, глядя друг на друга, и я слушала его восхищенно, раскрыв рот. По моему тогдашнему мнению, он знал решительно все, а я - ничего. Мне почти не приходилось задавать ему вопросы - его речь текла, как река, и несла меня, и только когда били стенные лабораторные часы, я знала, что надо уходить.