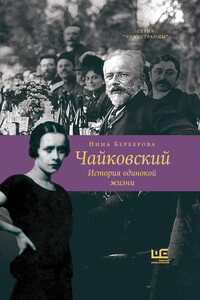Дом был старый, узкий и высокий, в темном вонючем переулке, вход был со двора, где два бледных мальчика в лохмотьях старались съехать на домодельных санках с черной снежной кучи. Я вошла в узкую дверь и стала подниматься по лестнице, скользкой от помоев, где удушливо и сладко пахло кошками. Некоторые двери были едва притворены, и из-за них доносились звуки: крики, ругань, пьяные всхлипы, детский плач, дикое пение каких-то куплетов, визг избиваемой собаки, бормотание не то молитвы, не то заклинаний. Кто-то громыхал чем-то тяжелым, рвался пар от стираемого белья. Все было черно, липко и гнусно. Из одной двери высунулась женская голова: лицо было красно и, кажется, пьяно, волосы растрепаны, незастегнутая кофта открывала серую, повисшую до пояса грудь. Она на одно мгновение отпрянула, увидев меня, потом протянула обе руки и мгновенно ощупала меня. Я бросилась назад от запаха, шедшего от нее, от брезгливой дрожи, потрясшей меня. Дверь захлопнулась. Наконец я нашла квартиру номер 29, из клеенки торчала мочала. Звонок продребезжал и смолк, это был хриплый, медный, какой-то Достоевский колокольчик. Раздались шаги, и Нутес открыл мне. На нем был тот же целлулоидный воротничок и тот же сюртук, но манжеты были сняты. Воздух квартиры был тяжел: пахло кислой капустой, прошлогодней жареной рыбой (с великого поста), чем-то тушенным на сале, луком, дымом печки, странным запахом сырости, в который вплетался струйкой какой-то химический дух - не то средства от моли, не то средства от тараканов, а вернее всего - от клопов, потому что с каждой минутой он становился все резче, убивая кухонные запахи и торжествуя над ними в горле и в носу. Нутес ввел меня в комнату, похожую на столовую. Посреди стоял стол, накрытый грязной клеенкой, старой и облупленной, как будто кто-то вечерами долго колупал ее, выводя рисунок. Направо стоял буфет, а налево - старые ширмы, с нарисованным на них китайским болваном, у которого чьим-то пальцем был проткнут толстый живот. Было сумеречно, но он не зажег света и не предложил мне сесть.
- "Базаров как тип", - сказала я. - Вы просили вам принести.
- Ну-те-с, - сказал он и взял тетради. Через минуту он спросил:
- А что вы читаете?
Я ответила, что "Карамазовых".
- А из поэтов?
- Блока.
Он посмотрел на меня и вдруг сказал:
- Это хорошо.
Я почувствовала, как внутри меня начали распускаться цветы.
- Культ вечной женственности. Гете знаете? Я сказала, что да.
- Обратите внимание на конец "Фауста". А Владимира Соловьева читали?
- Немножко.
- Прочитайте. Там у него про вечную женственность. А у Блока любите: "Но ты, Мария, вероломна"? "Он на коленях в нише темной", - продолжала я.
Он вдруг вышел в маленькую дверь, видимо, за книгой, и я осталась одна. Становилось все темнее. Окно, затянутое пыльной, рваной занавеской, серело. На буфете лежал кусок ржаного хлеба и обкусанная редька, а рядом с редькой стояли две круглые, огромные манжеты с перламутровыми плоскими запонками, которые я хорошо знала и которые он ежедневно на себя навинчивал, как мы выражались. И вдруг меня неудержимо потянуло взглянуть на то, что за ширмами. Я ступила шаг и вытянула шею.
На кровати лежала огромная толстая женщина и неподвижно смотрела в потолок. В первое мгновение я решила, что она мертва, что это мать его или жена, которая умерла, может быть, сегодня утром. Женщина не шевелилась, а я, как окаменелая, смотрела на нее. Она была до подбородка укрыта тряпьем, тело ее высилось горой под этими отрепьями, а на вершине этой горы, которая приходилась над самым ее животом, лежала маленькая засаленная куколка, безносая и лысая, в рваных панталончиках. Рука женщины была положена поверх тряпья, и она гладила куколку, едва-едва шевеля толстыми, совершенно негнущимися пальцами. Лицо ее выражало идиотское блаженство.
И вдруг она медленно перевела свои глаза на меня и сделала попытку слабо мне улыбнуться. Я отпрянула назад. Соколов входил в комнату.
- Ну-те-с, - сказал он, садясь, - прочитаем вот это.
Так он шесть раз в неделю начинал свой урок.
Глаза, опущенные скромно,