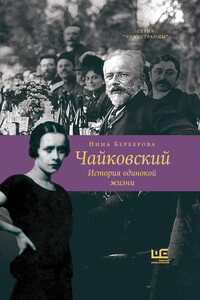2. Бедный Лазарь
Я приступаю к трудному и серьезному делу: с помощью Даши начинается мытье моих кос. Колонка в ванной гудит, печь раскалена, краны поют, в расписном фарфоровом кувшине булькает вода; наклонившись над ванной, я смотрю, как волосы, словно неподвижные, темные водоросли, лежат на ее дне. Даша льет тяжелую струю мне на темя. Это продолжается долго. Потом она вторично мылит мне голову огромным, громоздким куском желтого мыла. Он два раза падает, один раз в ванну и один раз на пол, и долго играет с Дашей в прятки, пока она ползает вокруг меня и наконец шваброй достает его из-под ванны. Я терпеливо стою, наклонившись. Наконец волосы начинают скрипеть признак, что они чистые, и Даша безжалостно наматывает их себе на руку, крутит и выжимает их, как будто это полотенце или тряпка. Она накидывает на меня что-то мохнатое и теплое, и тогда все вокруг начинает греметь: Даша споласкивает ведро, ставит все на свое место, тарахтит эмалированными тазами, напуская пар из горячего крана. Я иду к себе, она идет за мной, и, когда я усаживаюсь за стол и утыкаю нос в книгу, она ставит на пол у стула какой-то ушат, чтобы с меня не натекала на пол лужа. В этом есть что-то унизительное.
Пятница, 9 марта (благодаря старому календарю февральская революция произошла в России в марте, а октябрьская - в ноябре). В городе беспорядки. Завтра у нас званый вечер, и мать боится, что разведут мосты, что Сергей Алексеевич и Юлия Михайловна не смогут приехать с Каменноостровского и что из кондитерской Иванова не пришлют мороженое. Мне это впопыхах тоже кажется катастрофой, но внезапно я оказываюсь в совершенно другом измерении, и мне открывается иной мир: мир, где нет ни Юлии Михайловны, ни кондитерской Иванова, мир, где гремит Россия, где идут с красными флагами, где наступает праздник.
Все чаще и чаще я теперь знаю это ощущение: это выпадение из нашего обычного измерения в иное. Там другие законы: там тела имеют иной вес и иные взаимоотношения, и ценности там иные; там новые "нельзя" и "можно", и мне там весело, и страшно, и соблазнительно остаться там навсегда.
Гости съехались к десяти часам вечера, их было около тридцати. Я любила всегда, и до сих пор люблю, чужое веселье. Впервые мне было позволено остаться до конца, то есть до пяти часов утра, и я слышала, как Волевач, сопрано Мариинской оперы, пела "Лакме", и видела, как танцевали модный танец танго. Все было так далеко от меня и все-таки так интересно, как и теперь бывает, когда кругом танцуют или пьют чужие люди, почти так же интересно, как когда пьют и танцуют свои. Своих в мире мало. Громадный пароход пересекает океан, на нем тысячи две людей и ни одного своего; в огромной гостинице, на побережье зеленого моря, толпы людей - едят, разговаривают, ходят туда и сюда - и ни одного своего. Это в порядке вещей, и все-таки хорошо быть в толпе и, едва касаясь людей, проходить с улыбкой на лице из своего в свое, стараясь никого не задеть. И в ту многозначительную субботу - последний день старой России за шумным ужином в столовой для меня само собой разумелось, что я не могу в силу каких-то законов, которые я сама признала в незапамятные времена, - что я не могу ни с кем из присутствующих иметь что-либо общее. Я была среди них, но я не была с ними.
Мне и сейчас еще кажется какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия, и то гигантское усилие, с которым она потом поднималась - сорок лет. Тогда на верхах люди просто бросали все и уходили: сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные, пока не провалились в тартарары и они. От святых (вроде кн. Львова) и до бесов, имена которых всем известны, все были тут налицо, вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников. А главный виновник всего, тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что, прочитав в день коронации молитву "помазанника", он, принимая символ за реальность, стал действительно этим "помазанником", никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем. То, что можно платить смертью за жизнь, есть предрассудок, апеллирующий к чувствительности чувствительных людей. Смертью за жизнь не платят. Она сама есть часть жизни. И хотя мы все, в унисон, шлем проклятия нашему Камбизу тридцатых и сороковых годов, во всех российских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь.