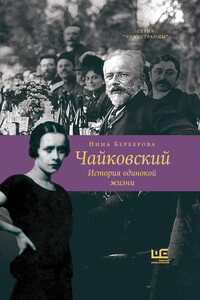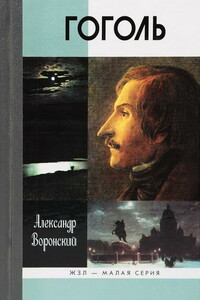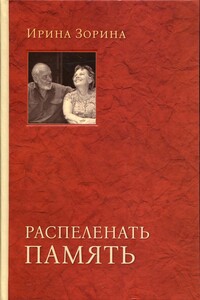Я еду на старые места. Я хожу по улицам "мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино". Я возвращаюсь переулками снова и снова на тот бульвар, что ведет от Обсерватории к вокзалу Монпарнаса. В одном из переулков я вхожу в ресторан - весь в клетчатых скатертях и салфетках. Час обеда. Я сажусь за столик. Пахнет смесью розмарина и лаврового листа, в которых где-то тушится мясо. Я заказываю еду, и сижу, и смотрю, и слушаю, что происходит вокруг. И как глаза иногда, приглядевшись к темноте, начинают узнавать предметы, так моя память, медленно, ощупью, кружа вокруг сидящей в углу женщины, вдруг узнает ее. Это - Симона де Бовуар.
Я увидела ее в первый раз в 1943-1944 годах - веселую, оживленную, молодую. Она шла по улице, качая широкими бедрами, гладко причесанная, с глазами, светящимися жизнью и мыслью. И вот прошло двадцать два года, и я не сразу узнала ее. Толстыми неловкими пальцами она играла сломанным замком своей старой сумки, наклоненное лицо казалось упавшим, оно было как бы без глаз - заплывшее, мрачное, с тяжелыми щеками и опухшими веками. В третьем томе своих воспоминаний она писала о своей внешности. Как жестоко говорила она о себе! Вся книга полна больницами, операциями, ужасом перед старостью и смертью; она пишет о давлении крови (своем и Сартра), о близком сердечном припадке. Сартр - как автомат - занят "Критикой диалектического разума", в последние годы он так перегружен работой, что у него нет времени даже перечитать то, что он написал. Он глохнет от снотворного. Друзей не осталось... Теперь я вижу ее перед собой, она сидит вдвоем с другой женщиной, еще не старой, но раздраженной и усталой, как и она сама. Обе молчат. Толстые пальцы шевелятся, все пытаясь защелкнуть замок, темное закрытое платье плотно обтягивает ее большое тяжелое тело. Я долго смотрю на нее; она не поднимает глаз, и видны только веки и щеки. Что-то, должно быть, неладно с почками или с печенью, что-то у нее внутри - как она сама писала - не работает, с трудом продолжает ей служить, с перебоями, с замедлениями и угрожающими перерождениями. На мгновение я отчетливо представляю себе, как у нее все обстоит внутри: расширенные вены, перебои сердца, раздутые органы, ленивые железы... Обо всем этом она сказала сама. И я представляю себе ее наружное окружение: ее студию, где она теперь проводит дни и ночи и где она возненавидела даже музыку. Там развешаны ее гаванские и пекинские сувениры - да, она и о них писала подробно.
Ее книги всегда были моим чтением, и третий том ее мемуаров только что окончен мною. Она писала там о головных болях, об опухании ног. Она жаловалась, что Сартр, всю жизнь требовавший engagement и без engagement не признававший литературы, вот уже четверть века не может решить, на какую сторону ему стать? как ему быть? кем ему быть? И время от времени мрачно спрашивает: что нам делать? куда нам идти? с кем нам быть?
Я смотрела на нее и думала: вот так, как я ее вижу сейчас, она однажды видела Эльзу Триоле, на обеде в советском посольстве, и удивлялась, какое у нее угрюмое выражение лица. Обе они тогда занимали советского посла разговорами, как сохранить молодость. Арагон тоже был обеспокоен этим, угнетен и подавлен наступающей старостью...
Она теперь крутит ложечку в своих мужских пальцах. Всю жизнь она старалась отделаться от буржуазных предрассудков, ей это не удалось: она боится смерти. Чтобы заглушить в себе сознание - запоем читает полицейские романы.
Сартр хотел быть коммунистом. Потом он хотел быть алжирцем (некто Иведон, умирая за Алжир, воскликнул: "Я - алжирец!"). Одно время он признавался: без коммунистов мы ничего не можем. С коммунистами Сартр и она ходили на уличную демонстрацию против де Голля. В тот день один из их коммунистических друзей признался им, что никогда не ездил в метро, сегодня едет впервые - всю жизнь пользовался только такси. Дела в Венгрии в 1956 году они оба осудили. Потом поехали в Москву, решив там встречаться только "с привилегированным классом". Сейчас она стала равнодушна к путешествиям, признается, что иногда ненавидит красоту. "Все равно я скоро буду лежать в могиле...". "Смерть стоит между мной и миром". "Смерть уже, собственно, началась", "...вихрь песет меня к могиле, и я стараюсь не думать". "Может быть, покончить с собой, чтобы только не ждать?.."