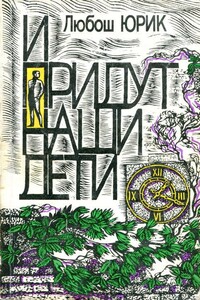Стремление к славе есть стремление к заслуженной похвале. Но ведь и священник хвалит своих прихожан за совершённые ими добрые дела! Отчего же Ты, о Господи, противишься этому, раздавая пряники самым недостойным и потешаясь так над теми, кто в поте лица своего трудился и теперь взаправду достоин Твоей похвалы?»
Ласточка прервал чтение. «Литература – это лишь грязные сплетни и дурные сны автора, – мысленно ответил он алчущему славы борзописцу. – Книги дурачат человека пустыми умностями, обманывают, пытаясь подсунуть всякий раз фальшивку…»
За окном светало. Выспавшийся за ночь город обнаруживал первые признаки пробуждения.
«Смерть, вероятно, и вправду чем-то напоминает сон. Ведь люди ничем не обеспокоены, когда ложатся спать, хотя каждый раз они сами не знают, что их ждет, какой сон предстоит пережить им. Смерть – это сон минус подсознание, терзающее кошмарами, минус сознание, забитое шелухой и многочисленными напластованиями, минус плотские желания, запустившие сладострастные корни в мясистое чрево подсознания, минус память, нанизывающая на нитку времени, словно сушеные грибы, события и переживания их, имена и даты, минус все, за исключением самого свободного, ничем не отягощенного существования неизвестно чего, существования существования, не определяемого ничем. Ничто, пребывающее в свободном парении, восхитительное ничто, подобное невесомому переливающемуся камню-пузырю», – так думал Ласточка, перебирая четки слов, прежде чем закрыть глаза и погрузиться в сон, из которого, и он это знал наверняка, он вынырнет в жизнь, а не в сияющие пустотой пространства.
Нужно было уснуть до того, как проснется эта адская улица.
6
В пятницу он проснулся с легкой тяжестью. Такое странное сочленение понятий в точности описывало его ощущения. Он чувствовал тяжесть, но она растекалась не по всему телу, а только по его контурам. Он был словно обведен тяжелой угольной полосой: кончики пальцев, плечи, макушка, ступни – все это казалось отекшим, скованным и тянуло к земле.
Он не очень любил пятницу, в отличие от большинства людей, ходящих на службу, для которых пятница – начало отдыха. Впереди два выходных дня, и с чистой совестью можно жить допоздна, особенно не ограничивая себя в желаниях. Алкаши надираются по пятницам, матери семейств, не надрываясь особенно на хозяйственной ниве, усаживаются у телевизоров. Но он никогда не служил, и поэтому всеобщее обожание пятницы оставляло его равнодушным.
После того как его выставили из аспирантуры, он устроился ночным сторожем, но не ради денег: просто это была почетная среди богемы профессия. А содержала его прекрасно, благодаря своим состоятельным спутникам жизни, мама. Он был «негром», делал бесконечные подстрочники для наших переводчиков, не владевших ни одним языком, включая и родной. Затем, когда мама со своим внешторговцем укатила в Голландию на десять лет, он переселился в ее прекрасную трехкомнатную квартиру в центре и продолжал там жить припеваючи: она присылала деньги, шмотки, книги, пластинки. У него первого в Москве появлялись свежие записи Эллочки или Каллас. Прослушивание новой пластинки обставлялось им как ритуал. Он приглашал друзей, они пили из красивых бокалов вино и слушали музыку. Среди друзей было множество меломанов, уехавших впоследствии на Запад, в частности и потому, что «там с пластинками лучше».
Он жил, не обремененный ничем, интересуясь на свете двумя вещами: людьми и искусством. Он всегда жил в своем собственном ритме, мог позволить себе целый день, к примеру вторник, пролежать с альбомом в руках или слушая музыку. Он очень много и жадно общался, перебывал во всех московских мастерских, у него была масса подаренных картин, многие из которых впоследствии превратились в большие ценности. Он был знаком с лучшими подпольными поэтами и прозаиками, он любил лучших московских женщин, он умел говорить, он легко сходился с людьми и легко нравился им, он никогда окончательно не расставался с женщинами, а оставался с ними друзьями.
В его жизни, наполненной чужими драмами, никогда не было склок. Он был очень мягок, и, наверное, поэтому друзья прозвали его Ласточкой.