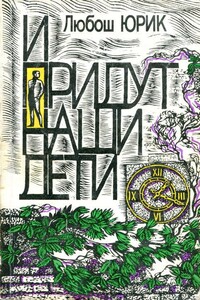Он посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого.
5
Эту ночь он почти не спал, он читал письма.
Что-то подсказывало ему, что этой уединенной ночью нужно воспользоваться, не выбросить ее в сон, а сделать, может быть, последний существенный рывок в чтении. Он мучительно спрашивал себя, что есть Смерть. Обычно физические страдания отгоняли от него эти мысли, он это знал и на примере других смертельно больных людей: они никогда не говорили и не спрашивали о смерти. Они вообще делали вид, что ее не существует, а если случайно кто-то упоминал о ней, если что-то происходило в телевизоре, по радио или в газете, они проявляли абсолютную глухоту. Так же и он, когда нестерпимо страдал, никогда не думал о ней. Не думал и тогда, когда страдания сменялись светлыми минутами, когда болевая буря уступала место удивительным по своей голубизне и ясности просветам, поскольку именно в этих просветах он и жил, старался жить как можно полноценнее и радоваться, а не предаваться грустным мыслям.
Но эта черная ночь, этот пустой отрезок времени впереди возбудил его мозг, соблазнил его черными мыслями, и он думал, он пытался разгадать, найти ответ или хотя бы интуитивно нащупать правильный образ. Старуха с клюкой, с косой, череп, обтянутый черной косынкой, пустые глазницы, курносый профиль – недаром многие ласково кличут смерть «курносенькой», невеста в белых одеждах, лодка, уплывающая в серебристые воды бесконечности или, наоборот, тонущая в иле, в нацинкованных глубинах, мрак, тоннель, свет, нескончаемость неба, спуск вниз или вознесение…
Он вспомнил, как рыбаки чистили еще живых рыб и как плясали на холодном песке их отрезанные головы, как работали вхолостую жабры, как пялились круглые глаза… «Сбросить бы эту истасканную, одряхлевшую оболочку, – думал он, – все равно уже ни на что не годится. И почувствовать свободу бестелесности. Или, наоборот, пережив все стадии распада, отсырелым пеплом в урне, зачерпнутым из братской могилы, превратиться в ничто и остаться ничем, вырасти цветком на собственной могиле. Хотя здесь, кажется, не сажают цветов на могилах… А может быть, вообще лучше было бы умирать где-нибудь в российском захолустье, в полуразвалившейся больнице с несвежими простынями, где врачу, кроме воды, нечего в шприц набрать. Но зато там цветы – тетка, пока жива, сажала бы…»
А вместо этого было слезное прощание в «Шереметьево-2», где, внезапно распрямившись, соотечественники разгуливают с неприступными лицами. Вот они смотрят поверх голов, и все блошиные рынки мира, погруженные в полосатые сумки с надрывающимися ручками, шевелятся в этих бездонных чревах. И тут же иностранцы с дебильными улыбками на лицах, вдыхающие первые испарения экзотического Москоу, в который и отправляться-то небезопасно. Он долго размышлял об этих странных американских и прочих лицах, сразу узнаваемых в российской толпе. Что в них – стерильность? цивилизованная простоватость? особая ухоженность? необаятельность непонятного? Что-то в них есть такое пластмассово-резиново-гуттаперчевое, словно искусственным образом выведенное при помощи соединения синтетического сперматозоида с не менее синтетической яйцеклеткой: и фарфоровые зубы, и словно стеклянные глаза, и кажется даже, что какают они чем-то несусветным, бесцветным, непахнущим. Ласточку пришли провожать все: холеная маменька, раздутый «дядя Слава», дрожащая от волнения тетка, какие-то друзья и подружки… Он видел их будто в полусне, расплывчато, он все время сосал какие-то пилюли и глотал содержимое каких-то ампул, чтобы хоть как-то поддержать себя. Затем он подыхал, как глист, в мерзком чреве самолета, где в сине-зеленом мареве копошились прочие пассажиры, тоже напоминавшие ему глистов. Этот самолет будто специально насосался хинина, чтобы извести его, и он корчился в кресле, отказываясь от всего, что липко предлагала ему стюардесса, являвшая собой типичного представителя «рашен колоссаль». Огромная русая коса обвивала ее голову, как змея, и он хорошо запомнил эту косу и выдрессированный взгляд, более нежный, чем взгляд любящей подруги, более внимательный, чем взгляд оперирующего хирурга.