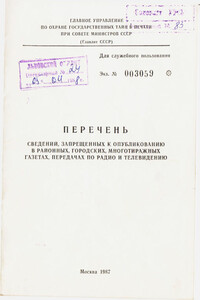Правда, преодолеть в себе прошлое ему не удалось. Законченные им «Египетские ночи» производят впечатление и античного торса с приделанными к нему восковыми руками ПуШк МиНо влечение его — безнадежное и упорное — к ^ * Некому мастерству — крайне показательно. Дух классицизма переплавлен, оживляя, старые формы: в них воскресает новая выразительность. Исчезают мертвые клише, ветхие эпитеты, окаменелые метафоры, отрубаются засохшие ветки и возвращается жизнь корням. Какая чистота звука, какая крепкая законченная и устойчивая форма в последних стихотворениях Сологуба! Сложность стала простотой и туман рассеялся в прозрачности. Его бержереты — это французский XVIII век, увиденный глазами Пушкина.
Величайший из символистов — Блок — пишет пушкинскими четырехстопными ямбами поэму «Возмездие». Своей полновесной чеканкой и ритмическим изобилием они напоминают стихи «Онегина». Та же непринужденная легкость рассказа, те же смены шутливых описаний и лирических взлетов, та же пластическая точность в словосочетаниях. Блок хотел выразить «единый музыкальный напор» своей эпохи; воплощенный в слове — этот ритм естественно породил классическую поэму.
Один пример из «Возмездия»:
А нам, читатель, не пристало
Считать коней и тур никак,
С тобой нас нынче затесало
В толпу глазеющих зевак,
Нас вовсе ликованье это
Заставило забыть вчера…
У нас в глазах пестрит от света,
У нас в ушах гремит ура!
То же влечение к онегинской форме ощущается у Андрея Белого. Его поэма «Последнее свидание» — в обработке конкретных деталей, в манере афористических характеристик, в тоне светской causerie пытается приблизиться к стихотворному роману Пушкина. Благоговейно и влюбленно читаем мы его стихи; с суеверной бережностью относимся к каждому его слову. Появились пушкинисты, пушкинианы, пушкиноведение; изыскания в области его стихотворной техники, поэтического словаря, синтаксиса и стиля значительно расширили и обострили наше знание о нем. Возросло для нас непостижимое обаяние его искусства, изысканного и сложного в своей простоте. Мы поняли, что великий поэт стоит не в начале, а в конце длинного пути русской поэзии, замыкая собой блестящий период, начатый Ломоносовым и Тредьяковским. И как окончание, как канон — не имеет будущего. Пушкиным исчерпаны все возможности классической поэтики, единственной существовавшей у нас поэтики. — Девятнадцатому веку Пушкин был чужд так как нем завершалось искусство «неоклассицизм»? Возвращение на пройденный уже путь,
подражание неподражаемому, эпигонство? Как можно говорить о Пушкинизме в современной поэзии? Молодые поэты связаны с Пушкиным не мотивами, даже не приемами своего творчества — их объединяет мастерство. Ни пророки, ни проповедники — они мастера слова. Почувствовав его природу, силу и удельный вес, они сознательно подчинили себя его законам. Невыразимое, бывшее материалом для символистов — для них не существует. Они хотят сказать только то, что может быть сказано: в выражении тема исчерпана до конца. Ничего приблизительного, ничего лишнего, никаких намеков и нащупываний — крепкая хватка и меткий удар. Каждое слово оправдано — его ни вынуть, ни заменить нельзя. Как камень в своде, оно поддерживается всем строением и оно же держит его.
Разумный расчет руководит строителем; он вычисляет упор колонн и тяжесть крыши — он распределяет массы. Целесообразность — закон классического искусства. Как просты постройки Пушкина по сравнению с пышно–нзукрашенчыми мавзолеями Брюсова. Но последние рушатся под бременем своих барельефов, а стены Пушкина вечны.
Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Кузмин, Ходасевич, Георгий Иванов, Адамович и вся многочисленная плеяда «молодых», как бы ни были различны и индивидуальны их приемы, — кровно связаны с Пушкиным. Они дышат его воздухом, хранят его традицию. Она не сковывает их; ведь только в ней возможна истинная свобода. У французов XVII века был Рим; у нас нет античной традиции. Для нашего современного классицизма Рим — это Пушкин.