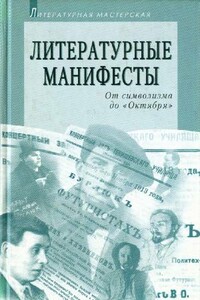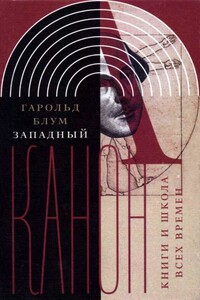И не поблекнешь, как мертвый злак.
Тютчевский Христос «в рабском виде» ходит по русской земле, благословляя ее; Блоковский Христос растворяется в ней: он и земля — одно. Для Блока идеал народной души благолепное подвижничество отшельников и схимников. Там, в срубах и кельях, живет Россия.
Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою,
Да и что за жизнь без клобука.
Оттого так присущ ей мятеж против всех установленных форм быта, так силен в ней инстинкт разрушения. Россия — в становлении, в вечном творческом движении; каждая остановка этого движения, каждая «утвержденная форма» ведет к смерти. Сотворенная Россия — во грехе и тьме, — вечно творимая — в сиянии неземном.
Пушкинская литература XIX века… Что из нее уцелело, что запомнилось, что хочется перечитать? Конечно, вороха печатной бумаги, конечно великие критики, Белинский, «открывший» Пушкина, Писарев, Скабичевский. «Значение Пушкина в русской литературе», «Культурная миссия Пушкина» — наизусть это знаем, во всех учебниках стоит. Воспевал чувства добрые и прославлял свободу — тема для гимназического сочинения. Просветительская деятельность смотри «Памятник». Правда, маловато для оценки великого поэта, к тому же Гершензон не так давно доказал, что и это малое покоится на недоразумении. Про «чувства добрые» у Пушкина, оказывается, — иронически.
Во второй половине XIX века произошла подмена настоящего Пушкина другим — школьным, убогим, общедоступным «гением». Гений — слово легкое, ни к чему не обязывающее. Гения следует уважать, но можно не читать. Подмена никем не была замечена — девятнадцатому веку суетливому и самодовольному не до того было, it ушки11 ему был не нужен, даже не удобен. Тут важнейшие «проблемы» системы, идеи и «духовные запросы», а у Пушкина
Ах, ножки, ножки, где вы ныне…
Пушкина подчистили (особенно в отношении граждаской и политической благонадежности), возвели в генеральский чин и забыли. Ни одного серьезного исследования, ни одной даже приличной биографии XIX век нам не оставил.
Непонимание и равнодушие, окружавшие Пушкина в последние годы его жизни, все возрастали. Не нашлось у него ни учеников, ни последователей. Он не объединил вокруг себя школы, не создал теории. Русская поэзия пошла по другим путям, преодолевая Пушкина. Лермонтов борется с ним, ища вдохновения у немцев и англичан, противостав1яя свое романтическое буйство классической, романской равновесности Пушкина. Он возвращается вспять к преодоленному старшим поэтом Байрону. По «окольной» лермонтовской дороге идут Тютчев и Фет — на широком пути Пушкина остается Некрасов. Но для него технические достижения автора «Онегина» — блестящие победы его в области стиха и стиля — как будто и не существуют. А потом начинается такая кустарная промышленность, такая поэтическая безграмотность, как будто вообще после тридцатых годов был всероссийский потоп. Когда же из пучины морской выплыл ковчег символизма, дух Пушкина не летал над ним. Новая поэтика утвердила решительный и — казалось окончательный разрыв с Пушкиным. И только, когда в бесплотной туманности «неоромантизма» сгустилось твердое зерно новой школы, когда после блужданий по «кларпзмам», «акмеизмам», «адамизмам» и пр. оформилось и осозналось новое поэтическое искусство — имя Пушкина прозвучало громом. Пушкинистам едва‑ли покажется парадоксальным утверждение: Пушкин был открыт в последние двадцать пять лет.
Конечно, еще существуют символисты и пишутся стихи намеков и смутных настроений; еще не откричали футуристы, где‑то на задворках вздыхают надсонисты — и все же: поэзия нашей эпохи проникнута единым «высоким» стилем, единым классическим пафосом и самый великий из современных поэтов — Пушкин.
Мандельштаму принадлежит афоризм: «Классическая поэзия — поэзия революции». В нем парадоксально только обобщение; быть может у нас лишь случайно революция совпала с классической поэзией. Поэтический переворот подготовлялся давно, еще в недрах символизма (вспомним статьи Мережковского и Розанова о Пушкине в девяностых годах возвращение к Пушкину провозгласили не акмеисты: разве Брюсов, знаток–издатель и комментатор Пушкина не экспериментировал над словарем и стихосложением автора «Медного всадника»?