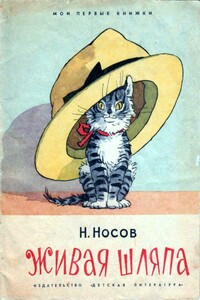Вечером семья села ужинать. Костя, поглядывавший в окно, заметил, что к ним кто-то идёт. Расплющив нос о стекло, вгляделся и крикнул отцу, снимавшему с гвоздя шапку:
— Да нет, это нищая, клюка — до неба.
Отец сплюнул:
— Вот уж, ждали Параню — идёт Маланья! Выйди, — кивнул матери, — да в дом не пускай. А то эти божьи трясогузки чего надо и не надо вынюхают.
В полосе света, падающего из окна, Костя видит: мать идёт по двору навстречу нищенке, протягивает хлеб. Вдруг всплёскивает руками, что-то часто-часто говорит — за двумя рамами не слышно. Нищенка — ишь какая смелая! — обнимает мать, и они трижды целуются. Потом мать вводит её в дом.
— Хлеб да соль, хозяева, здорово вечеровать, — говорит странница, вместо того чтобы с порога начинать смиренную молитву.
Голос её кажется удивительно молодым для такой старухи и очень знакомым. Старуха выпрямляется — горб совсем не мешает ей, а даже сам немножко съезжает вниз, — разматывает рваный платок, закрывавший лицо, и хозяева узнают милый, немного призабытый облик Анны Васильевны Мурашовой, бывшей школьной учительницы.
…Посмотреть с улицы — в окнах Байковых не увидишь ни искорки. Но в доме никто не спит. Агафья Фёдоровна вздыхает на своей постели, чутко слушает тишину. Егор Михайлович, тот и ложиться не стал. Сидит на лавке, а под лавкой — заложенный тряпьём обрез. В случае чего — только наклониться и взять… Костя сидит на лестничке, ведущей наверх, в бывшую комнату учительницы. Оттуда доносятся приглушённые голоса, но о чём говорят, не слышно.
Красноватый свет коптилки смуглит и чётче выделяет скулы на круглом лице Анны Васильевны. Пышные её волосы то золотятся, попадая в светлый круг, то, как в облако, ныряют в темноту: волнуясь, она ходит по комнате из угла в угол. Начала она свою речь деловитым: «Сначала общая обстановка. Расскажу всё, что знаю». Но то, что ей было известно о положении Советской России и чего в своей партизанской жизни далеко за линией белочешского фронта не мог знать Гомозов, было так угрожающе тяжко, что спокойной информации никак не получалось. С болью рассказывала о том, что английские и американские интервенты хозяйничают на русском Севере. Какие муки терпят от них портовики Архангельска и Мурманска, рабочие, рыбаки. О том, как лютуют кайзеровские немцы на захваченной ими Украине, японцы вместе с войсками генерала Семёнова — на Дальнем Востоке. В петле, охватившей Советскую Россию, почти не остаётся просвета…
Гомозов, поставив локти на застланный домотканой скатёркой стол и упёршись подбородком в раскрытые ладони, слушал, не пропуская ни слова, только всё больше хмурился. Потом, когда Мурашова замолчала, он нерешительно спросил:
— Анна Васильевна, а что известно про товарища Ленина? Мне недавно попалась барнаульская белогвардейская газетка. Там написано, будто бы он ранен… Смертельно… Я ту газетку сжёг. Врут?
— Было. Было покушение на Владимира Ильича.
Гомозов встал, рывком отодвинул стул. За дверью обеспокоенно поднял голову Костя.
— Большую тревогу мы все пережили. Сведения просачивались скупо: что беляки передавали в Каменск по телеграфу. На телеграфе у нас свой человек работает. Получим известие — тоже не знаем, чему верить, чему нет. Натерпелись горя. Потом из Москвы товарищ пришёл. Перебрался через фронт для связи с сибирскими большевиками. Он и рассказал подробности.
— Сейчас-то как? Жив?
— Сейчас хорошо. Раны были опасны для жизни. Однако трёх недель не прошло после покушения, а он уже сам поспешил успокоить товарищей — всё, мол, в порядке. В Москве выходил специальный бюллетень, каждый день сообщалось о его здоровье, о ходе лечения. Так он сам на таком бюллетене приписку сделал: дескать, на основании этого бюллетеня и его хорошего самочувствия покорнейше просит не беспокоить врачей звонками и вопросами. Заботился, чтоб народ не волновался. А самому-то нелегко пришлось.
— Ну вот, — облегчённо выдохнул Гомозов, — а этим в газетке, что бы ни соврать, лишь бы позабористей. Уж чуть совсем не похоронили. Я хоть и верить не верил, а душа болела. Что да если… А как всё же получилось? Чего говорил москвич?