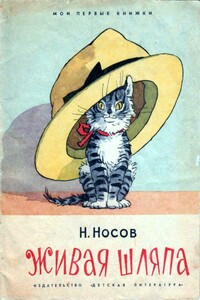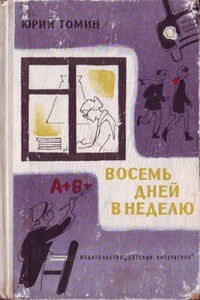Ни спать, ни лежать больше нельзя. Надо горшок припасти какой-нибудь ненужный, чтоб мать не хватилась, сделать из палочки с тряпкой мазилку, да такую, чтоб писать было сподручно. И пора собираться, а то свет в маленьком оконце из жёлтого сделался уже красновато-сумеречным. Закат. Небось отец скоро кликнет.
Первым опомнился старый Поклонов: девчонка, распростёртая на полу, больше не стонала. Он ещё раз сгоряча пнул её ногой — Груня не пошевелилась. Акинфий стал грузно оседать — враз ослабевшие ноги не держали. «Кончили», — металось в его сознании. Добро бы в лесу — закопали бы или в болото бросили, и концы. Или бы где на улице — на карателей свалить можно. Это бы не в диковинку. А в своём доме, средь бела дня — это беда. Как-то прятать надо, сидеть нечего. И с новой, откуда-то взявшейся силой, размашисто перекрестился.
Федька, увидев это, со страхом уставился на Груню и стал пятиться от того места, где она лежала.
Груня, в своём обморочном забытьи всё равно продолжавшая чувствовать боль, шевельнулась, бессознательно пытаясь придать телу более удобное положение. Ужас исказил Федькино лицо: мёртвая пошевелилась!
Старик не испугался ничуть. С неожиданной для него прытью подбежал, наклонился над её лицом.
— Жива, слава тебе, господи! — и с размаху вылил остатки кваса из кувшина ей на голову.
Груня судорожно вздрогнула, на миг приоткрыла глаза, жадно слизала попавшую на губы холодную сладковатую влагу.
Поклонов, наблюдавший за ней, остался очень доволен. Аккуратно поставил кувшин на стол, одёрнул на себе рубаху и вдруг закричал изо всех сил, совсем ошарашив и без того обезумевшего Федьку:
— Караул! Воровка! Держи, бей воровку, бей. Вот покажу тебе, как воровать!
Он стоял, удобно опершись о стол и кричал громко и часто, будто и впрямь ловил кого-то, с кем-то боролся. Потом, не переставая кричать: «Бей воровку, бей», — бросился одной левой вынимать внутренние ставни, снимать крючки с дверей. Сын, начиная понимать хитрость родителя и восхищаясь ею, быстро помог ему.
— Убью воровку, лиходейку! Ишь ты, хозяйские деньги её приманили! Федька, отыми деньги-то. Деньги отыми! Деньги! Держи её! Держи её!
Наконец Поклонов решил, что можно передохнуть. Теперь лады! И в доме, и на улице слышно: хозяин поймал воровку-батрачку и учит. Из-за своего-то кровного — это любой поймёт, — как не погорячиться. Ну, и поучил. Так не до смерти же!
— Узнаешь у меня, как деньги воровать! — выкрикнул в последний раз, на всякий случай, и вытер рукавом вспотевший лоб. — Ну, вот и хватит. Теперь можно людей звать… Нет, ещё вот деньги приготовить, чтоб все видели.
Велел Федьке стать лицом к двери, а сам ловко достал из тайника несколько зелёных бумажек, зажал за самый кончик в потном кулаке. Толкнул ногой дверь и потряс зелёными бумажками перед глазами оцепеневших, ко всему привычных, но такого ещё не видевших домочадцев.
…Поклоновская стряпуха Ефимья прикладывала к телу Груни тряпки, смоченные в кислом молоке, чтоб жар вытягивало. И всё качала головой, разговаривая то сама с собою, то обращая к Груне какие-то слова, на которые та не отвечала.
Украсть у хозяина деньги — на экий грех пошла девчонка. Но и её, бедную, как разделали! Небось всё внутри отбили. Выживет ли ещё после этого? Хоть и грешна, но ведь неразумна ещё…
Молоко не помогло. К ночи Груня заметалась, начала бредить, стонать. Стряпуха стояла возле лежанки, сложив руки на животе под фартуком, жалостливо смотрела на Груню и разговаривала с мальчишкой-кучерёнком, который, отужинав хлебом с картофельной похлёбкой, укладывался спать на кухонной лавке. Всё лето он спал под поветью, но сегодня очень много страшного навидался за день, попросился в дом. Стряпуха разрешила ему такую слабость: она раньше всех в доме просыпается, авось успеет выпроводить парнишку, хозяева и не увидят, что в доме спал.
— Вишь, мается девка, — говорила она, обращаясь к кучерёнку. — А придёт в память, опять за неё примутся. Забьют, беспременно забьют. — Слеза покатилась по рыхлой стряпухиной щеке. — Матери, что ли, пойти сказать, — продолжала женщина, — пусть бы домой взяла. Раз деньги свои обратно отняли, какой больше с ей спрос, отпустили бы душу с миром.