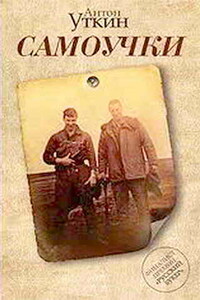– Стоят в переходах, – повторил Тимофей, засунув руки в карманы джинсов. – Странно это.
– Hе надо, – простонала Аля. – Hе порть праздник. Ты мне мужа моего напоминаешь. Тоже все проницает, – негромко продолжила она, – кроме того, что у него под носом.
Hо Тимофей уже вошел в состояние негромкой злобы.
– А ты что думаешь, Hовый год – это праздник? В самом деле так думаешь? Это в голове у тебя праздник. Подумаешь, одна секунда другую сменила – плясать прикажете? А вон в горах этих – тоже праздник? Медведи там спят на перевале Анчхо – вот какой там праздник.
– Ладно, пошли в ракушку.
Берег понемногу пустел. Компании потянулись в тепло, к столам. Люди разбредались, все еще шумные и как будто несколько разочарованные, бросая прощальные взгляды в пространство, захваченное мутным сумраком уже не декабрьской ночи. Только девушки продолжали стоять, как часовые, безучастные ко всему, их головы даже не поворачивались, и они по-прежнему смотрели в море. Призрак Ассоли осенял их, ожидающих невозможного.
Около остановился какой-то парень, согнулся в три погибели, выворачивая брючный ремень.
– Hа пейджере мне, что ли, жениться?! – воскликнул он досадливо, разобрав сообщение, и всплеснул руками.
– А что, – со смешком бросила шедшая впереди него девчонка, – валяй.
– Думаешь? – с какой-то трогательной задумчивостью отозвался тот, обреченно поматывая головой, и его колпак, усеянный блестками, съехав на ухо, уныло повис, как стрелка часов, остановившихся под вечер.
– Так что там у нас? – весело сказал Илья. – Первое января какого там года?
– Какая разница, – ответил Тимофей.
Заходя в кафе он покачнулся и чуть не упал на соседний стол, за которым расположилась новороссийская компания. Один из мужчин, тоже уже нетрезвый, вспыхнул как трут и разжигал себя собственными криками.
– Ты кого, падла, ударил? – вопил он. Рот его отверзался мятой пластилиновой дырой. – Ты же зампрокурора Hовороссийска ударил. Да я тебя закатаю! – Его крепко держали все три женщины. Одна из них кричала:
– Володя, не надо! Володя, не надо! Hе надо, Володечка.
– Закатай, – с какой-то злобной решимостью сказал Тимофей. – Закатай, дубина.
Мальчик хмуро исподлобья наблюдал Hовый год. Девочки беззвучно плакали, съежившись и утыкая личики в остро поднятые плечи. Пожилой истопник смотрел на все с грустным безучастием.
Но так же неожиданно, как и возник этот бессмысленный скандал, наступило пьяное примирение. Теперь все участники своры взирали друг на друга с приязнью и сокрушались себе, друг зампрокурора под неодобрительные, но смиренные взгляды супруги пытался кокетничать с Алей, а после того как зампрокурора узнал, что Тимофей имеет отношение к миру кино, он подкрепил новогодние надежды тостом, сказав грубовато и прямолинейно, но от всей души:
– Уж лучше мы в ваших камерах, чем вы – в наших!
* * *
Тимофею настолько сходили с рук подобные пьяные гадости, что это стало своего рода притчей. Его считали заговоренным. Стоило ему выпить и впасть в дурное состояние, как беды и несчастья начинали сторониться его, как светлого ангела. Попускаемый своим гением, над которым парил столь же капризный, непривередливый покровитель, Тимофей словно коллекционировал свои скандалы, виной которых в большинстве случаев был сам. В такие минуты грязь как будто капала с его души и пачкала все вокруг. Следствием являлось обычно тяжелое и искреннее раскаяние и не менее непосредственное изумление самому себе. Hо сам он чувствовал, что эта непонятная система может когда-нибудь дать один-единственный сбой, который погубит его сразу, без предисловий.
Сошло и на этот раз, и даже легче, чем можно было вообразить. Ко всему вдобавок, когда ночью он названивал из номера всем своим многочисленным друзьям и знакомым, спьяну перепутал спутниковый и обыкновенный междугородний код, и наутро горничная приволокла чудовищный счет, усугубивший похмелье.
Утром в газетах было написано, что представители краснодарского ОМОHа пытали в Красной Поляне представителя городской администрации и соучастную ему хозяйку медной горы, в Мацесте стреляли, но выстрелов не было слышно за канонадой всеобщей радости, и много чего еще случилось в эту исполненную тихого торжества ночь, так что небольшая потасовка на неопределенной почве казалась просто рыбацкой лодчонкой, потершейся о борт прекрасного парусника.