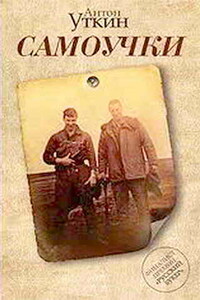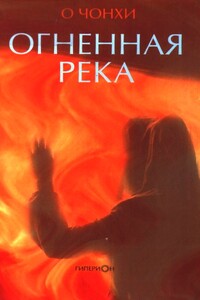Когда бы это поскорей закончилось, и мы снова оказались бы в Москве, и ты бы каталась на пруду в зимнюю стужу, а я бы читал твои следы и ночи напролет гадал, что ты хотела мне сказать. Прости меня за то, что я такой... Да, и совсем только сейчас сообразил, что Вы не знаете моего имени: я прапорщик (военного времени), рядовой Партизанского пехотного генерала Алексеева полка Николай Заботкин...»
Галкин еще раз пробежал глазами по строчкам и задумался, глядя на стену со своей картой: куда-то на Средне-Русскую возвышенность. Потом как бы сообразив что-то, отложил бумагу, поднялся, подошел к окну, отвернул штору и посмотрел на тот дом, где уже не раз видел это слово. Было уже очень поздно и тихо, ни одно окно не горело, и только на первом этаже светилась вывеска, и на ее зеленом поле ярко пылали пять белых букв.
Примерно половина заболевших тифом умирала. Оставшихся в живых можно было разделить на две категории: половина из них долго еще страдала от его последствий: болезнь почек, временное умопомешательство. Другая категория выживших выздоравливала полностью и как-то физически обновлялась. К этой последней категории принадлежал Николай. Ему казалось, что за всю свою жизнь он не чувствовал себя так хорошо, как после этой болезни. Как бывает у тех, кому было дано избежать настоящей опасности, мысль о смерти представлялась ему смешной, а сама смерть казалась, как в детстве, делом десятым, невозможным и не имеющим к нему никакого отношения. Вместе с тем он впал в блаженство.
И день и ночь по площади мимо лазарета тянулись отступающие части, но унылый их вид никак не действовал на воображение Николая. «Отступаем? – думал он весело. – Ну и что с того? Не вечно же будем отступать. За нами горы, зацепимся за них, за горами море, а там край русской земли. Вот вам и ответ на вопрос, доколе будет продолжаться „драп“. Борьба ведется за русскую землю и на русской земле. Смоем там пыль и порох, оттолкнемся от Казбека, выйдем в степи, и опять выскочит на курган трубач на игреневой лошадке: „Всадники-други, в поход собирайтесь...“
Во дворе и у ограды толпились способные ходить раненые. Они молча и подолгу смотрели на проходящие части в надежде встретить кого-нибудь своих, устроиться со своими на какой-нибудь повозке – свои не бросят, чтобы только не оставаться в этом лазарете, в этом обреченном городе, который вот-вот займет враг.
Как-то долго, словно бы нехотя, змеей тянулись кубанцы в черных бурках, в папахах, закутанных башлыками. Капитан-алексеевец Максимович, стоявший на костылях у крыльца и мрачно наблюдавший за их неторопливым движением, процедил с ненавистью: «Что, фронт бросили, кафтанники, снохачи?», но все новые и новые всадники, равняясь с Максимовичем, смотрели на него исподлобья без какого бы то ни было выражения, как на пустое место, как на поднятую оглоблю, как на придорожный куст.
Николай примерно понимал положение на фронте и знал поэтому, что никакой его части в этих местах появиться не может, но продолжал вместе с другими молча смотреть на остатки уходящих армий.
По временам в памяти возникали слова бреда. Николаю казалось, что он теперь знает некую тайну, которой он не прочь и даже обязан поделиться с другими, но в то же самое время он чувствовал, что веры его тайне не будет. И поэтому он, держась руками за чугунное кружево, только смотрел с благостной улыбкой на ползущие в грязи мимо него обозы, змеи конницы, на хмурые, изможденные лица проходящих, в навсегда печальные глаза лошадей. Война, отступление – все казалось ему теперь не таким важным, как раньше... И еще какие-то строки, которых никогда он не знал, поселились в его сознании и тревожили, как будто это была строфа детского стихотворения – из тех, что запоминаются на всю жизнь.
Палетка, в которую была уложена лендриновая тетрадка, оставалась при нем все время болезни. Он раскрыл ее и на верхней части той страницы, где была карта, аккуратно надписал: «На милой и смешной земле».
* * *
Последний состав на Екатеринодар прошел ночью. На путях под парами еще стоял поезд начальника участка и несколько составов с потухшими паровозами в коросте голубого инея. Там побывали несколько ходячих с Максимовичем во главе в надежде отыскать съестное, но в вагонах нашли замерзшие трупы тифозных и раненых и мануфактуру. Ходили слухи, что еще будут поезда, но солдатское радио, которому в те дни одному и можно было верить, приговорило, что поездов больше не будет, потому что путь где-то у Армавира уже отрезан красными. Кое-кого горожане забирали себе на квартиры, а тяжелые и те, кому идти было некуда, по выражению глаз персонала пытались что-то понять о происходящем. Но сдержанные лица сестер с поджатыми губами, ставшими вдруг скупыми на слова, сосредоточеннось, под которой они и сами прятали свое беспокойство, служили грозными признаками. Тяжелобольные с свойственной их состоянию обостренной чуткостью угадывали в этих письменах суровую участь. Утром четвертого в процедурной застрелился казачий офицер, и эхо этого гулкого выстрела долго еще летало и слышалось в помещениях, как будто бы это неприкаянный дух все прощался, прощался с остающимися жить и все никак не мог проститься. Тяжелые, лежа на соломе, молча и неподвижно ожидали своей участи, прислушиваясь к далекой еще канонаде.