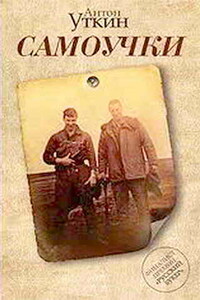Оторвавшись наконец от окна, генерал не удержался и опять погладил холодеющими пальцами навощенный глаз феодальной птицы. «Эшелоны-то стоят», – мелькнула опять мысль. Hо тут перед ним встал образ худого жандарма, и больше в этот вечер ничто его не тревожило.
И он велел приготовить себе чаю.
И когда допивал стакан, что-то толкнуло его изнутри, поднялось из глубины, как будто в нем что-то взорвалось, и даже глаза у него повлажнели. И подумал он как-то растерянно, словно еще не доверяя этим словам: «А ведь мы победили, победили. Все. Все закончилось». И на лице его тоже смешались радость и растерянность, как будто только сейчас, с опозданием, мысль об этом известном оплодотворила чувство, и до него дошло все значение совершившегося. Такая радость распирала его, что он испытал физическую потребность немедленно, сейчас же с кем-нибудь поделиться ею. Его затопила волна всепрощения. Он готов был целовать своих врагов. Отставив стакан, он приблизился к двери. В приемной адъютант шуршал газетой, и генерала поразила эта невозмутимость, эта беззаботность. Как-то он еще не мог сообразить, что все давно уже знают, ведь кончался май. И в то же время его бередило сознание, что есть еще кто-то, кто, может быть, еще не знает, – кто может, должен, имеет право разделить эту радость. Он обшаривал глазами пространство, и тут перед ним встал этот таинственный взгляд.
И генералу до боли захотелось, чтобы этот человек обо всем узнал и порадовался вместе с ним. И он заговорил про себя так, как уже отвык говорить много-много лет назад: «Эй, слышь, друг, как тебя?.. Чего уж там, сочтемся... – отвечал он одновременно кому-то, сам не понимал кому, – Алексеевского полка... Прапорщик... Пойме-ет, как не понять? – отмахнулся он опять от кого-то, может быть, от самого себя. – По-русски мы ж с ним говорим... Слышь, ваше благородие... ваше благородие... – этому обращению он даже в уме от смущения придал немного насмешливости. – Германца-то мы сломали. Поломали его совсем. Ничего от него не осталось».
Маша стояла у выхода со станции «Площадь Революции», и взгляд ее безостановочно скользил по лицам выходящих людей. Тяжелые дубовые двери станции бесшумно летали туда-сюда и выталкивали на улицу вместе с пассажирами порции теплого подземного воздуха. Густели сумерки; пестро одетые люди шагали из ярко освещенного вестибюля на мутно синеющую улицу, на несколько мгновений их поглощала вечерняя мгла, и они превращались в темные безликие фигуры, пока снова не попадали в полосу света витрины или фонаря.
Утром Маша была в Одинцове, а теперь она ждала свою ближайшую подругу Люду и ее мужа Романа, которые пригласили ее в недавно открывшееся заведение, совмещавшее назначение кафе, книжного магазина и литературного клуба.
В Одинцове она навещала Василия Давидовича Канке, старинного друга своего отца, с которым вместе они долгие годы по кусочкам собирали фрески надвратной церкви П-ого монастыря, да и вообще были знакомы всю жизнь, по крайней мере ту ее часть, которая прошла на ее памяти. Она знала, что смерть отца – удар для него. Они пили чай с брусничным вареньем, а перед тем Василий Давидович позволил себе две рюмки водки, от которых слегка захмелел. Он пенял на церковь, которая отбирает теперь то, на что ушли десятки лет работы, а службы нарушают температурный режим, говорил о том, что вот сменилась власть, а ничего, в сущности, не поменялось, для них не поменялось, и по-прежнему гибнут на глазах бесценные сокровища, и все это, бесспорно, как ни тяжело об этом говорить, не могло не сказаться... конечно, отразилось... и может быть, он не вынес, потому что с боем, со страшным боем надо брать каждую рогатку, и эти люди, которые сидят при власти, они ничего, ничего не хотят знать, никого это не интересует, – позвольте, как же это так? – а виноваты мы, мы, потому что мы выдали им мандат, и вот как мы ошиблись, и что история никого ничему... как поздно мы все это поняли, и много еще чего-то такого из законодательства, чего Маша хорошенько не понимала, потом много рассказывал про сына, которого она знала в детстве и которого и Василий Давидович, и ее отец одинаково называли Васильком. Василька она помнила худощавым подростком, упорно избегавшим общения с нею как с младшей, да еще и девочкой, а теперь он был корабельным инженером и служил на верфи где-то в Калининграде, и Василий Давидович, тяжело вставая с кресла, показывал фотографии его и невестки. В квартире было неопрятно, передвигался он уже с трудом и при помощи палки, так как страдал артрозом; смотреть на все это было ей очень грустно, и вообще она вышла от него с каким-то нелегким сердцем. Сейчас, стоя у станции, она пыталась пробудить в себе философское бесстрастие, говорила, что да, увы, время губительно, оно никого не красит, никого не щадит, но это не очень получалось. Все же зрелище напряженного городского часа и участие в нем рассеяло ее тягостные мысли.