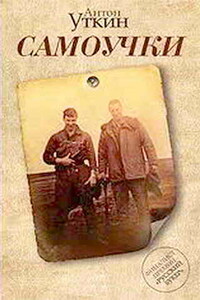А потом аэропорт в Ташкенте... Собачий лай из-за двери. За два года он умудрился забыть, что у него есть собака...
С тех пор он никогда никуда больше не возвращался. Воспоминание это внезапно сделалось до такой степени осязаемым, что у него задрожали руки. Он подошел к окну и стал смотреть во двор.
И ему показалось, что ничего лучше не было больше в его жизни.
* * *
Галкин долго еще стоял у окна. Он видел, как какой-то человек со смутно знакомой фигурой решительно шагал к его подъезду. «На Тимофея как похож», – машинально отметил он, и тут же раздался сигнал телефона.
– Дома, заходи, – ответил Галкин и с неохотой отошел от окна. Он выключил компьютер, поставил чайник и сунул фотографию между книг.
– Ты ее теперь вместо паспорта с собой таскаешь? – хмуро спросил он, увидев в руках у Тимофея знакомую тетрадку.
Они сели за стол и молча уставились на карту.
– Это ведь могло быть аллегорическое название, – заметил Тимофей.
– Ну, если аллегорическое, тогда в облаках его ищи. – И он опять увидел, как бегут по небу, в белых подушках облаков, гигантские фигуры, и ему стало досадно, что пришел Тимофей и нарушил его воспоминание. – Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и навсегда из списков части исчезнут наши имена, – продекламировал он, засмеялся и спросил с беспокойством, заметив, что Тимофей зорко оглядывает стены кухни:
– Ты что удумал?
– Ничего страшного. В коттаб сыграем? – предложил он.
– Как это? – буркнул Галкин.
– Ну-ка, назови женское имя какое-нибудь. Все равно какое.
– Ну, Людмила Ивановна, – сказал Галкин.
Рука Тимофея с рюмкой застыла в воздухе.
– А попроще что-нибудь? – сказал он, скептически поглядев на Галкина.
– Кристина, – сказал Галкин.
– Эк тебя заносит, – покачал головой Тимофей.
Галкин немного подумал.
– Тогда Маша, – произнес наконец он и накрыл собственное слово таким вздохом, будто это грустил и сомневался не человек, а кит, изгнанный сразу из всех океанов.
– Что ж, пусть будет Маша, – согласился Тимофей.
Капля угодила точно в лицо коннетаблю Бертрану и, задержавшись на нем на мгновение, поехала вниз, размазывая себя по стеклу.
– Смотри ты, – удивленно заметил Галкин, – не в бровь, а в глаз.
Оба они наблюдали, как коньячная капля не спеша стекала вниз, но едва до белой рамки оставался ей какой-нибудь сантиметр, Галкин с проворством кота сорвался с места, схватил губку и молниеносным движением остановил ее сползание к рамке. Тимофей покачал головой.
– Ишь ты, Ма-аша... – передразнил он Галкина. – Что ж. В музеях легче переносится бренность надежд.
Но Галкин его не слушал. В ушах у него еще звучал горный ветер, и мысль его витала в трущобах Азии.
– Предлагаю обмен, – сказал наконец он тоном, не предполагающим отказа. – Ты мне оставляешь для расшифровки эти записки, а я, так и быть, уступаю тебе черепок. Греческая буква «кси», которая на нем, приносит счастье. Тебе нужно счастье?
– Да пожалуйста, – легко согласился Тимофей. – Счастье так счастье.
Но черепка не тронул.
* * *
Когда зазвучал сигнал телефона, работал телевизор и Илья не без внутреннего какого-то стыда смотрел, как опереточный донской атаман с офицерским Георгием на выпуклой груди прогуливается по набережной Дрины в толпе есаулов и раздает интервью. «Все. Войско уже в походе», – с неброским достоинством заверил атаман корреспондентов и телезрителей, и Илья взял трубку.
– Где ты взяла телефон? – судорожно сглотнув, спросил он, но снова тут же охрип от напряжения.
– Тима дал, – сказала она. – Надо встретиться.
– Надо встретиться? – тупо переспросил он. – Да, да, понял, понятно: надо встретиться.
И странен был ее голос – знакомый и несущий в себе время. Нельзя сказать, чтобы он ждал этого голоса, нельзя сказать, что уже забыл его ждать, нельзя сказать, что и не ждал, – гадать об этом было действительно бессмысленно, даже если вы и выдающийся фантазер. Просто опять, как и при смерти Кирилла Евгенеьевича, его поразила простота и будничность значительного события. И если это было так просто, почему тогда надо было ждать этого так долго?
И все же глодало его сомнение, правильно ли он сделал, что согласился. Hо такие решения, как правило, принимаются не нами, и он это чувствовал. Чувствовал и то, что у него не достало бы сил поступить иначе, и не обманывал себя долго. Весь день он провел как в лихорадке. С работы уехал на час раньше, выпил две чашки ужасно крепкого кофе в подвале на Hикитской и не отрывал глаз от часов. Времени было навалом, нужно было уминать его, укладывать секунда к секунде, словно вещи, не лезущие в переполненную сумку. Он оставил машину и побрел в глубь переулков, мимо маленькой белой церковки со стеклянными дверями вышел к бурому костелу, осененному парой древних тополей. Каждая мелочь западала в сознание, лихорадочно и неотвязно привлекала внимание, как часто бывает в минуты сильнейшей рассеянности.