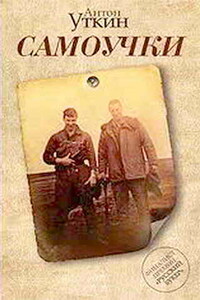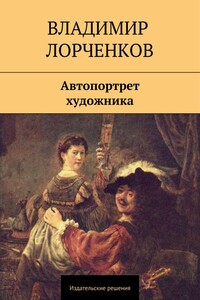До поры Тимофей представлял себе жизнь как совокупность эпизодов, каждый из которых является неизбежной причиной последующего. Предопределенность как будто лучше всего доказывала существование надлунного мира. Но все чаще и навязчивей тягостное подозрение овладевало им, и тогда он старался затаиться, замереть, заставляя себя прислушаться к работе организма, частью которого он себя так отчетливо ощущал. Сам он, как и многие другие, привык измерять свою жизнь знаками судьбы, с того времени, когда он обрел способность к анализу, ему казалось, что он чувствует их и замечает повсюду, но он отдавал себе отчет, что часто он видит то, чего нет, и даже больше: что сами по себе знаки эти ничего не предвещают, а оборачиваются в конце концов какой-то, иногда очень даже недоброй, насмешкой. И мир, вечно текучий, давал этим понять, что нет смысла подбирать к себе ключ, но что двери его раскрываются не по велению человека, а по собственному его непостижимому промыслу.
«И это жизнь? – спросил он себя. – Это она и есть?» – С каким-то обиженным недоумением обвел глазами доступное взору пространство. Как если бы вместо крейсера, подминающего под себя волны, увидел себя заложником утлой, берущей воду и текущей плоскодонки, которую то и дело приходится тащить волоком, от плеса до плеса, бредя по бесконечному мелководью, как бурлак.
Взгляд его упал на книжного жучка. С видом деловитым, независимым и целеустремленным крохотное насекомое правило путь к неведомой цели и, казалось, улыбалось всем своим просвещенным существом.
Тимофей еще раз оглядел обстановку комнаты, в которой находился; еще раз его глаза свершили путь, похожий на синусоиду, еще больше удивления выступило в них. Тут он и услышал жизнь: шорох Садового, вздохи подъездов, и будто только сейчас постиг ее тайный замысел: двигаться, танцевать, создавать ритм. И даже вот эта букашка, неслышно свершающая свой путь, – куда? зачем? – и только сам себе он казался – самое живое из всех живых – существом совершенно мертвым. Только глаза, наверное, отражали, собирали остатки света, смешав на палитре сетчатки редкие отблески вечера.
И вдруг краем глаза увидел, как выплыла, взметнулась из серого, вспененного быстрым ветром облака луна с размытыми краями, исполненная наливающейся силы, и, взъерошив макушку тополя, стремительно протекла по восходящей дуге за соседний дом в неразличимые высоты, оставив только свет, и свет этот поверг все различимое в такую таинственность, из которой не было исхода.
Его обескураженный взгляд, блуждавший в потемках, напал на черный прямоугольник, лежавший на столе. Тимофей долго не мог понять, что это за предмет, но ему не хотелось протянуть руку, чтобы выяснить это. Довольно долго он сидел и задумчиво глядел на этот непонятный прямоугольник, но потом все же подвинулся и нащупал лендриновую тетрадку. Он включил свет, раскрыл ее на первой странице, где была карта, и с жадностью на нее уставился, словно бы надеясь, что, расшифровав ее, он получит ответы сразу на многие, если не на все, свои вопросы. Только теперь он обратил внимание, что обозначения эти образовывали как бы треугольник, на вершине которого стоял разъезд «Терпение». Форт «Безмятежность» занимал нижний правый угол, а крепость Сомнения – нижний левый.
И размышления о возможных путях захватили его. Можно ли было попасть в форт Безмятежности прямо из крепости Сомнения, или же путь этот пролегал исключительно через разъезд Терпения? И каково вообще было направление движения: из форта в крепость или наоборот? Или путешествия эти возможно было соверешать в обе стороны, если картограф вообще предполагал здесь какое-либо движение? Или, быть может, полагалось пребывать на разъезде и с его высот хладнокровно озирать обе возможности бытия. Теперь он мог делать смелые гипотезы – то, чего никак не мог в обычном состоянии, – и был волен делать с ними все, что будет ему угодно.
Казалось бы, карта и обозначения на ней допускали исключительно аллегорическое толкование, однако наступали минуты, когда они проступали в своем незыблемом смысле. И когда Тимофей начинал об этом думать, просто отказывался верить в то, что ни этих названий, ни этих вершин, ни рек, текущих в ущельях, не существует в действительности, а есть они только на этой пожелтевшей странице офицерского блокнота. Иногда даже Тимофей открывал атлас и подолгу разглядывал незнакомые страны, стараясь применить свою находку к их пространствам. Но занятие это было пустое. Однако и сама эта желтизна страницы, и дата, поставленная в ее углу, и многозначительная вязь последующих страниц как будто создавали карте ценз времени, которым исключалась всякая аллегория. И ему не раз приходило в голову, что даже если тетрадкины кроки – только фантомы сознания, то всемогущее время – если придет оно – преосуществит слова, написанные химическим карандашом, в настоящие горы, реки и населенные пункты. «А то, – думал он, – страну эту и вовсе нельзя найти, а она сама может открыться».