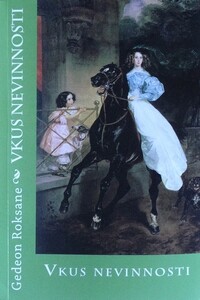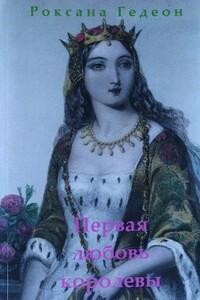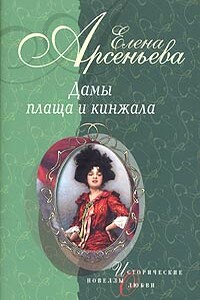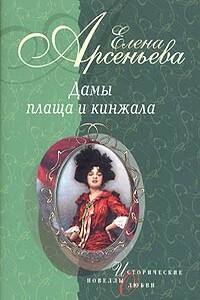Сидя на телегах, бретонки все так же вязали шарфы, баюкали детей и напевали какие-то странные бретонские баллады. Поскрипывая, мерно вертелись колеса, перемалывая сентябрьскую грязь. За телегами гнали пленных республиканцев, босых и связанных.
4
На рассвете 21 сентября 1793 года Лаваль открыл свои ворота мятежникам.
Было тихое утро; лучи солнца, словно даря последние приветы лета, пронизывали золотую листву. Город утопал в подрумяненных осенью кронах деревьев, в меди буков и пурпуре каштанов. И жители Лаваля, казалось, даже не задумывались, какое страшное преступление совершили: вопреки декрету Конвента предоставили убежище бретонским мятежникам. Наказанием за это было бы полное исчезновение города с лица земли.
Среди бретонцев поднялся необыкновенно сильный ропот по поводу пленных. Силы белых слишком малы, чтобы гнать и стеречь две сотни республиканцев; кроме того, их еще надо кормить, а хлеба едва хватает самим бретонцам. Все другие командиры, например Шаретт и Стоффле, без всякой жалости расправляются с пленными, и правильно делают: нечего щадить эту синюю сволочь! Надо отомстить за королеву, томящуюся в тюрьме, за маленького ребенка-короля, заключенного в Тампль. А мученическая смерть Людовика XVI – она разве не требует отмщения? И, наконец, сам господин маркиз де Лескюр погибает от пуль синих! Последнее обстоятельство усиливало всеобщую ярость. Мятежники были растеряны потерей командира, растеряны и взбешены: подобное преступление требовало наказания… Они роптали, уже дошло до того, что все были готовы прикончить пленных, и притом зверски. Например, насыпать пороха им в рот и взорвать…
Каким-то чудом Лескюр, еще живой, пришел в сознание, словно почувствовал, что его отряд намеревается запятнать себя бесчестьем. Нечеловеческим усилием воли приподнявшись на носилках, он хрипло заговорил, и звук его голоса мгновенно заставил крестьян благоговейно умолкнуть.
– Кто здесь готовит казни? Ты, Налей-Жбан? Или ты, Крадись-по-Земле? – пылающие глаза Лескюра остановились то на одном, то на другом помощнике. – Может быть, вы решили стать палачами? Наше дело – не месть, а война. Бог на небе отомстит за наши жертвы, нашу королеву и нашего короля. Не берите на себя роль судей, будьте только воинами. Синие в Париже поставили гильотину – они варвары, у них нет веры. Но ведь у нас есть наша религия, и мы не станем дикарями…
Бретонцы сурово молчали. Они были до мозга костей преданы маркизу, кроме того, они были суеверны и считали, что голосом умирающего вождя говорит сам Господь. Задыхающийся, с трудом произносящий слова, хрипящий от ран Лескюр с кровью на губах был в их глазах мучеником за веру и короля.
Маркиз не удовольствовался этим. Чтобы быть до конца уверенным, что и после его смерти пленных не расстреляют, он заставил бретонцев стать на колени и на святом распятии поклясться в этом. Словно какая-то нечеловеческая сила поддерживала жизнь в этом человеке: Тюрпен был уверен, что Лескюр умрет еще вчера, а он до сих пор жил. Когда клятва была произнесена, маркиз упал на носилки, сжимая зубы от боли. Его унесли в дом. За носилками шествовал аббат Коффен, призванный для исповеди и последнего причастия.
Фанатичные грубые бретонцы откровенно плакали. Никто не понимал, что теперь надо делать. Командир погибал, все были разобщены.
Плас-Нетт, помощник маркиза, позаботился о том, чтобы мы и в Лавале хорошо устроились. Нас поселили в доме какого-то республиканца, недавно повешенного; семья его делась неизвестно куда. Здесь было несколько комнат, довольно хорошо обставленных. Я уложила измученных детей спать. Было немного не по себе от того, что приходится пользоваться чужим имуществом, да еще и имуществом врага. Мы, конечно, ничего не возьмем, но все-таки…
Я думала, что не смогу уснуть, зная, как Лескюр страдает, но мало-помалу усталость взяла свое. Я забылась в тяжелом сне на несколько часов. В конце концов, я еще не совсем оправилась от раны и нуждалась в отдыхе.
Когда я проснулась, был уже вечер. Дети сидели за столом и ели рисовую похлебку, наспех сваренную Маргаритой. Я слышала голос Мьетты, сердитый и раздраженный: