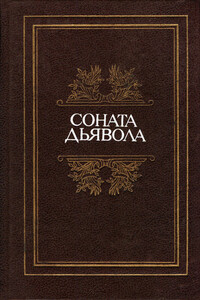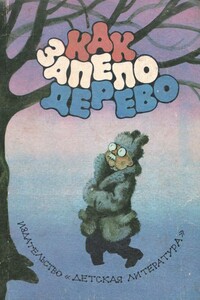Какое-то время я тупо и бесцельно бродил по комнатам. Мебель, похоже, подобрана женщиной: квартира изобиловала удобно расположенными зеркалами, так что я получил возможность лицезреть себя анфас, в три четверти и в профиль. И нашел, что я не так уж привлекателен, как мне показалось в кафе на улице Сент-Оноре. Черты лица действительно были безупречны и гармоничны. Однако недоставало изюминки, какого-нибудь изъяна или асимметрии — чего-то, что оживило бы эту блеклую физиономию. В любом совершенстве есть некая неподвижность, не свойственная жизни. Глядя на себя, я попробовал улыбнуться, засмеяться, и на моем лице заиграла этакая слащавая жеманность. Правда, улыбался я через силу. Вполне естественно, что вид у меня при моем нынешнем состоянии был несколько пришибленный, но вдобавок это омерзительно-томное выражение! «Нет, с такой физиономией нечего и думать понравиться Рене, — заключил я. — Если бы ей, бедняжке, и довелось когда-нибудь выказать расположение мужчине, то только не такого типа». Я пожалел о своей прежней физиономии: насупленной, упрямой, неприветливой, но живо отражавшей все душевные движения.
Примерно без четверти семь я вышел и стал бродить неподалеку от дома, надеясь увидеть, как возвращается Рене с детьми. Улица Коленкура, описывающая кривую на склоне Монмартра, самая живописная в Париже. Она похожа на дорогу в рай: обсаженная молодыми, в любое время года трогательными деревцами, она начинается от Монмартрского кладбища и поднимается к небу. В своей самой аристократической части, то есть вблизи вершины кривой, она не пересекается ни с какой другой улицей. Метров двести по обеим сторонам без единого просвета тянутся высокие дома со сводчатыми фасадами. Иностранец, забредший в это глубокое ущелье с единственным чаянием выйти к базилике Сакре-Кёр, с содроганием думает, уж не заколдовано ли это место, и с робкой учтивостью спрашивает у встречного дорогу. Два ряда автомобилей замерли вдоль тротуаров, они изгибаются вместе с улицей и смыкаются где-то в бесконечности. Их оставляют у дверей своих домов наиболее зажиточные обитатели улицы, пока выводят своих собак помочиться на пороги самых убогих лавчонок, чтобы подольститься к бакалейщикам побогаче, да и просто ради собственного удовольствия. У жителей этого ущелья — что весьма необычно, если не уникально для северных кварталов Парижа — нет ни кафе, ни даже забегаловки, и чтобы утолить жажду, им приходится подниматься до заведения Маньера, туда, где улица наконец размыкает свои глухие стены и вырывается на простор, сливая свои деревья с деревьями проспекта Жюно. На этом перекрестке лет уж десять жили мы с Рене и детьми.
Я не торопясь спустился до кафе Поля, солидного заведения на пересечении с улицей Ламарка, — начиная с этого места улица Коленкура меняет облик и запросто соседствует с прилегающими улочками. Этим теплым сентябрьским вечером люди, с которыми я обычно раскланивался, теперь меня не узнавали, зато сама улица и дома на ней остались мне верны. Иначе говоря, я, сам того не замечая, повторял маршрут своих обычных прогулок — проходил по тем же местам, останавливался у тех же витрин. Наконец я обнаружил, что стою и любуюсь Ивовой улицей, которая всегда представлялась мне прекрасным уголком Японии, причем иногда мне явственно виделась в конце ее гора со снежной верхушкой. Тогда я подумал, что если Ивовая улица, и витрины, и все кругом осталось для меня прежним, значит, и во мне самом мало что изменилось. Просто на некоторое время моя семейная жизнь как бы раздвоится, будет протекать на двух соседних этажах. Не пройдет двух-трех лет, как я добьюсь солидного положения, способного прельстить осмотрительную мать семейства, и под другим именем вновь стану мужем своей жены; тогда я переселюсь опять на пятый этаж, и все будет так, будто ничего не произошло.
Успокоившись и уже не так остро переживая постигшее меня несчастье, я повернул назад. День угасал. Женщины с сумочками в руках спешили домой. Среди них попадались и хорошенькие, но мужчины их не замечали: уткнувшись в газеты, они пожирали глазами кричащие заголовки. Я же еще не успел купить газету и потому обратил внимание, что некоторые из женщин поглядывали на меня с явным интересом и иногда даже оборачивались вслед. Возле углового здания, которое подобно носу корабля выдавалось вперед у слияния проспекта Жюно с улицей Коленкура, меня обогнала молодая женщина, и раньше не раз попадавшаяся мне на глаза. У нее были темные волосы, черные глаза, высокая грудь, крутые бедра — пышность форм подчеркивало перетянутое поясом облегающее платье — и на редкость стройные ноги. Еще накануне я видел ее и, как обычно, тайком пожирал глазами. Тогда она на меня даже не взглянула. Она просто не замечала меня, и это было до того обидно, что я порой еле сдерживался, чтобы не сказать ей что-нибудь оскорбительное. Если иногда, в промежутках между этими мимолетными встречами, я вспоминал о ней, что случалось, впрочем, не часто, то мысленно называл ее Сарацинкой — наверное, из-за ее черных глаз и плавно покачивающихся бедер. Теперь же, сворачивая на улицу Коленкура, Сарацинка наконец удостоила меня взглядом, и не беглым, а пристальным и настойчивым. От этого нежданного ответа на прежние немые призывы кровь закипела в моих жилах. На какое-то мгновение Сарацинка оказалась бок о бок со мной и так поглядела на меня украдкой, что я едва не заговорил с ней, но, вспомнив о жене, дал ей уйти вперед и шел за ней до кафе Маньера — она свернула в него, я же прошел мимо. Поостыв, я подумал о том, что из-за своей привлекательной наружности могу утратить душевный покой. Правила, которыми я ограничивал себя до сих пор, вдруг стали для меня необязательными. Бедняку легко гордиться своей стойкостью перед соблазнами, которым поддаются богачи. Он ведь и понятия не имеет, что искушение искушению рознь: неимущих оно лишь опаляет, имущих же увлекает прямиком в преисподнюю. Будучи некрасивым или, скажем так, обладая заурядной наружностью, я гордился тем, что неподвластен чарам Сарацинки. Мне казалось, что все дело в моей силе воли, тогда как в действительности мне просто не на что было надеяться.