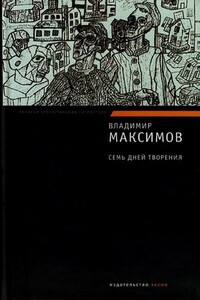, - спрашивает, — к политическим пойдешь?». А я ему опять: «Это без зубов-то?» Дорого мне эта шуточка обошлась, сам не заметил, солдат, как сломался, а когда рюхнулся
[4], поздно было. «В санчасть его, — говорит, пусть отлеживается, мне такие ребята нужны, сразу видно: морская душа!» С тех пор и хожу я в погонялах, ни дна б ему, ни покрышки, этому Никишеву, маму бы я его мотал, что с кадровым моряком сделал! Откантовался я у лекпома с месяц, оклемался малость, зовут меня по-новому на вахту, отваливают шмотье первого срока. «Облачайся, — говорят, — велено тебя по начальству доставить, теплее, — говорят, — заворачивайся, путь дальний». «Куда еще, — спрашиваю, — нужда объявилась?» — «А твое, — отвечают, — дело телячье: обделался и стой себе, помалкивай!» Спорить, сам знаешь, нашему брату себе дороже, одеваюсь, соплю в две дырочки. Сажают меня, будто опера, в офицерские розвальни и прямиком через тайгу на политическую командировку. Как сейчас помню, торчат три палатки брезентовые в снегу над берегом, а сбоку сарай не сарай, вроде конюшни, да три балка рядом для надзорслужбы. «Слезай, — говорят, — ждут уж тебя». Заводят меня в офицерский балок, смотрю, сидит это там Никишев мой собственной персоной, коньячок потягивает, сухим черносливом закусывает, китель нараспашку. «Садись, говорит, — разговор будет». Наливает он мне коньяку полкружки. «Пей, говорит, — бригадир, есть к тебе разговор». Рванул я свою долю залпом, башка с непривычки кругом пошла, а он мне сходу: «Читал я, — говорит, анкету твою, занятная, — говорит, — анкетка». — «Какая есть, — отвечаю, гражданин начальник, другой не заслужил еще». — «С Кубани, значит, родом, спрашивает, — казак?» — «Так точно, — отвечаю, — гражданин начальник, из станицы Платнировской». — «И что же, — спрашивает, — родня там осталась?» «Какая, — отвечаю, — родня, гражданин начальник, все в голодовку перемерли, одна мамашка спаслась, недалеко тут перебивается». — «Помнишь, значит, голодовку-то, — спрашивает, — а сам глядит на меня, как кот на мыша, — не забыл?» — «Еще бы, — говорю, — забыть, век не забуду и другим закажу, тогда мухи и те дохли». — «Коли так, то пошли со мной, — говорит, — устрою тебе урок политграмоты». Накинул это он казакинчик свой полковничий на плечи, папаху в руки и вон из балка. Сквозит это он прямиком к сараю, я — за ним, а к нам уж со всех сторон надзорслужба сбегается, услужить норовит. Влетаем мы с начальством в сарайчик этот, Никишев командует за спину: «Давайте-ка их сюда, этих сукиных детей, — конвоиры ему тут табуреточку подставляют, знают свое дело, прохиндеи, — как говорится, произведем наглядную агитацию!» И вот волокут вскорости ему двух зэков поперек себя тоньше. Веришь, братишка, видал я доходяг, сам доходягой загибался, а таких видывать не приходилось: гнилая рванина на одних костях держится. Поставили это их перед ним, стоят, словно паутина на ветру колыхаются, хоть ложками собирай. Один, вроде еврея, в черной заросли, а другой, похоже, наш, нос уточкой, глаза квакушкой, на лице безо всякого выражения, дошли, как говорится, до точки. Никишев мой кивает надзору: смывайтесь, мол, а потом поворачивается к зэкам, с эдаким ласковым подъедцем: «Честь имею, господа бывшие члены цека, чего хорошего скажете, чем порадуете партию и правительство?» Молчат без пяти минут жмурики, глядят пустым глазом в одну точку, только шевелятся. «Чего ж язык проглотили, — ярится помаленьку Никишев, — или говорить разучились? Ты же, Изя, — кивает он еврею, — всей пропагандой в Кавкрайкоме командовал, колесницей гремел, соловьем разливался, целую казацкую вольницу к общему знаменателю привел, сделал Кубань-матушку колхозной житницей, все сусеки под метелку вычистил, ничего для родины не пожалел, — ни себя, ни народа, соломой на работе горел, а всё с твоей легкой руки, Иван Алексеич, — русский, нос уточкой, тут же квакушкины глаза в землю упер, — она у тебя еще с гражданской легкая осталась, офицерье деникинское долго твою ласку по парижским кабакам вспоминать будет, да и землячки кубанские не забудут, как ты их к счастливой жизни с Изькой вместе наганом заворачивал, не задаром у нашего дорогого вождя орденок схлопотал, что теперь скажешь?» Стоят доходяги, даже колыхаться перестали, судьбы своей дожидаются. Поворачивается здесь Никишев ко мне, глаза белые, губы в синюю ниточку. «Усвоил, — говорит, — бригадир, политграмоту? — А сам под бекешкой своей кобуру расстегивает. — Доверяю тебе, — говорит, — бригадир, боевое оружие, покажи на живой мишени, чему тебя во флоте выучили, под мою личную ответственность». Не знаю, не ведаю, братишка, что тогда со мною сделалось, ум за разум зашел, в глазах белый свет помутился: вспомнил я разом, как боговала тогда городская голь по станицам, моровой стон стоял только да голосили бабы над ребячьими люльками, как ползала на карачках мелюзга по жухлой стерне, гнильем летошним разживалась, как высыхала вповалку на холодной печи родня моя взрослая, смердила падалью на весь двор, будто чумой тронутая… Свету мне тогда, солдат, не взвиделось, пошел жать на гашетку, всю обойму до предела выжал. После того и сам свалился, то ли воздуху не хватило, то ли коньяк сморил, слышу только голос Никишева моего над самым ухом: «Понял теперь, бугор, что — к чему? — шепчет: — Принимай иди бригаду и помни, с кем дело имеешь, все они, сукины дети, одним миром мазаны, на них крови больше, чем на тебе поту, теперь ты им хозяин…» Так и пошел я, братишка, с тех пор на повышение… Тащика еще одну, мать, все равно нехорошо!