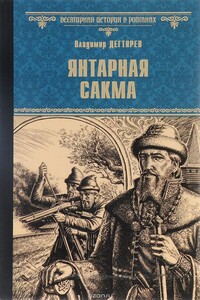— Да, — ответил Егоров, — теперь вижу, что я очень богатый человек. А в деньгах — какой я богатый?
— В деньгах? В деньгах, Сашка, сын мой, мерить нельзя. Сегодня эти бумаги стоят по доллару за штуку, а завтра могут стоить и по десять долларов за штуку!
— Я такого счёта не понимаю. Я понимаю, что эти бумаги ты мне даёшь... папаша, за моё золото. Но почему только за треть моего золота? Где остальное?
Зильберман больше держаться не мог. Завизжал:
— Ты о моей дочери подумал? О своём будущем сыне — подумал? Ты обо мне, твоём отце, подумал? Это страна Америка! Здесь любое дело — есть семейное дело!
— А почему сразу мне думать о моём сыне? — удивился Егоров. — Его ещё сделать надо. Я пока — не делал... И потом, ведь может быть и дочь, а?
Зильберман завизжал маленьким поросёнком:
— Сын! Сын! Сын будет!
Егоров посмотрел на красное, потное лицо орущего и решил, что до свекольной красноты лицо ещё не высветилось. Надо бы высветить. Поэтому и спросил:
— Значит, если я негаданно помру, то мои капиталы, этого, бумажного свойства, станут капиталами твоей дочери?
— Капиталами твоей жены! — не сдержавшись, заорал Зильберман. — Жены, жены, твоей, твоей!
— Да? — удивился Егоров. И сделал большой грохот, даванув жида об железные шкафы со словами: — Тогда почему моя жена сейчас не даёт мне третью часть своих денег? Чтобы я чувствовал при ней свою силу мужа? Это было бы честно!
— А ты в наши дела не лезь? — орал Зильберман. — Ты моей дочери ребёнка не делаешь, обрезание не делаешь, гуляешь, как паскудная свинья, где попало, пьёшь с вором Сэмом Полянски! Каторжник! Радуйся, скот свинячий, что ты пока член моей семьи!
Прооравшись, Зильберман на пять шагов отошёл от открытой дверцы сейфа к двери в коридор. Вышел из комнаты, стал прислушиваться к шорохам в доме.
Егоров тут же свернул три разрисованных бумаги и сунул себе под рубашку, под левый бок.
Зильберман вернулся к сейфу и увидел, что Егоров держит правительственную ценную бумагу вверх ногами и ковыряет ногтем гербового орла.
— Ничего не пойму читать, — Егоров протянул бумагу Зильберману, — ты же у меня папаша, тебе эти бумаги в руки твои мозолистые так и просятся. А русским такие бумаги, они... в одном месте нужны — зад подтирать. Мы на слово друг другу верим. А что ты у меня исхитил, так то ты мне отдашь не бумагой, а золотом! Моим золотом, американским золотом, мне без разницы. По вашему весу — восемьсот килограммов золота... Ну, папаша, я пошёл...
— Никуда ты не пошёл! Сиди дома!
Егоров махнул рукой, шагнул дальше, но вдруг остановился возле двери в коридор, обвёл глазами стены, сейфы, закрытые дверцами. С умилением сказал:
— Ах, какой богатый человек! Все стены выложены бумагой. — И вышел.
Зильберман закрыл дверцу металлического сейфа, протёр её рукавом домашнего халата. Хоть и ни разу не сделал этот русский дурак ни одного движения на Саре, ребёнок у неё уже сидел в брюхе. Ребенка за сто долларов в ночь затолкал туда некий белокурый голландский матрос. Три ночи толкал, старался. Потом пошёл пропивать те доллары в портовую таверну, и его никто больше не видел... А через месяц Сара ощутила, что Луна больше её не беспокоит, и ежемесячные женские недомогания кончились. Городской врач Гольдберг тут же написал справку под три печати, что ребёнок в животе Сары произведён её мужем Александром Егоровым, президентом Финансово-торгового общества «Американо-Русская Акционерия».
— Хе-хех!
* * *
— Нет, господин Егоров, ты нервы себе не мотай. Тебя пока не убьют. Кончать тебя будут через год. После рождения твоего... сына... — Сэм Полянски это говорил, изучая три ценные бумаги, уворованные Егоровым в особой комнате Зильбермана. — Это всё же только бумаги. С ними возни будет много... Тебя твоим евреям надо будет везде показывать, тебе надо ещё много раз ставить подписи. Воровское дело у жидов не простое. Они стараются следов не оставлять. Бумаги туда, бумаги сюда, деньги в свой банк... В общем, время пока есть. Но точно тебе говорю — убивать тебя будут, когда Сара родит.
— Да от кого же она родит? От меня не родит, крест кладу...
— Дураков много в этом мире.