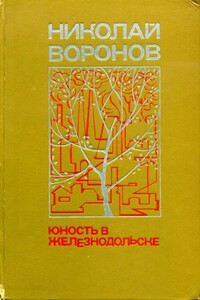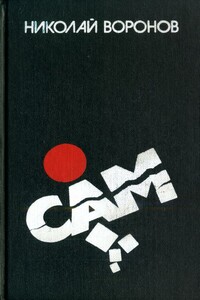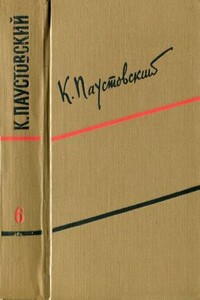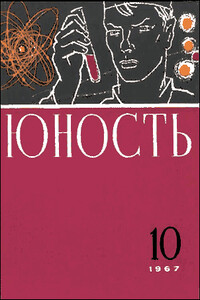Голос Полины взвихрился совсем близко:
— Оставь, Мария, мои стены, —
И проводил меня с крыльца.
«Сюда, что ль, идет?»
Он бросил ведро, хотел спрятаться за куст крыжовника, но не успел: протиснулась сквозь смородину Полина.
— Андрейка, здравствуй. Один?
— Был один.
— Любишь ты один в саду.
— Почему же…
— В девчонках у меня вроде твоей повадка была. Убегу за станицу на берег Кизила. Никого. Ракушки собираю, лукошки из тальника плету. Чаще мальков спасала. Половодье спадет, они в ямках на пойме останутся. Завяжу юбчонку и таскаю. Так их много, кишмя кишат. Давно это было, целую вечность тому назад. Теперь для меня хуже одиночества ничего нет. С людьми — солнышко, наедине — потемки. Поймешь тех, кому в деревне не ложилось.
— Свободного времени через край.
— Кабы все так просто разрешалось, как в твоих словах, ох, легка была бы жизнь.
— Вам-то не на что жаловаться.
— Поверхность, Андрейка.
— Есть многодетные женщины, здоровье скверное, мужья пьянствуют, дерутся…
— Тон у тебя какой?! Старичок. Андрейка, Андрейка, душу ты не учитываешь. Правильно, мой муж — человек, всем я обеспечена, квартира отдельная, машина и вдобавок сад. Мало, Андрейка! Думаешь: «С жиру бесится». Думаешь?
— Думаю.
— Думаешь: «Глаза завидущие, руки загребущие»?
— Не думаю.
— За это спасибо. Думаешь: «Чего мается? И сама не знает».
— Своего не передумать.
— Другим ты становишься. Раньше делился переживаниями. И мою откровенность понимал. Я не довожусь тебе родной, а по нашей обоюдности ты должен считать меня за родню.
— Мало ли родных по крови, а чужих в жизни.
— Неделю ты не видел меня. Неужели не соскучился?
— Нет.
— Я соскучилась по матери по твоей, по тебе, по папке твоем. Ивана бы повидала.
— Выдумываешь все: не скучала. Не страдаешь ты ни о чем…
— …только притворяешься. Кудесник! Нет для тебя тайны ни в твоем, ни в чужом сердце.
— Хотя бы.
— Оюшки, сердитый, а сердитый. Нынче сердинки не в цене. Дома, должно быть, неприятность? С Наткой нелады? С Люськой поцапался? Помочь, может, в чем?
— Расшаталась. Грядку топчешь.
— У вас ступить некуда. Ничего с твоей редиской не случится. Будет еще слаще. Загородил душу китайской стеной. Оюшки, оюшки, пристанут сердинки к лицу. Не пыль, с мылом не отмоешь.
Она приткнула кончик пальца к Андрюшиному лбу, повела вниз.
— Рассмейся. Ведь проще простого. И ты засияешь, и я. Неужели нельзя порадовать человека, коль у него тоска по радости? Насупил брови. Гляди, срастутся. Так и останется бугор на переносице. Оюшки, когда ж будет щедрость на доброту? Не смеешься — заставлю.
Поймала Андрюшу за бока, начала щекотать. Он забился в ее сильных руках. Он умел терпеть: сдавливали со спины шею — не сгибался, сжимали запястья — не приседал. Однажды острокаблучная женщина целый прогон простояла у него на мизинце в трамвае, не шелохнулся, чтобы она не испытала неловкости. Но щекотку он не мог переносить. По точному определению бабушки Моти, он обмирал от щекотки, и так как беспамятство, кроме того, которое вызывается ранением или смертельной болезнью, казалось ему омерзительным, он приходил в ярость, и кто бы его ни щекотал, пускал в ход кулаки.
— Прекрати! — закричал он, выходя из терпения, и ударил Полину в бок.
— Драться, драться! Ой, удружил! Ох, спасибо!
И Полина отпустила Андрюшу. Однако, едва он чуть-чуть отпрянул, она сжала его щеки ладонями, поцеловала в губы, оттолкнула.
Он схватил комок земли.
— Оюшки, сдурел! — удивилась она и пригрозила: — Кинешь — зацелую.
Полина качнула плечами, пошла по тропинке-канавке. Ткань блузки прозрачно рябила на спине, бился об ноги подол юбки.
В беспомощном гневе Андрюша растирал ладонями комок земли. От боли пылали губы. Гулко ударяло в висках.
Тень карагача опустилась по будке на узкую клумбу, где росли гвоздики, и, точно спрессованная, застыла у ствола.
После того как ушла Полина, Андрюше опять сделалось тревожно. Тревога была странная: заставляла сосредоточиваться не на том, что ее вызывало, а прямо на самой себе. Ему становилось боязно. Из-за этой боязни вдруг принималось частить сердце. Начинала страшить не подавленность собственной боязнью, а ее последствия — лихорадочная скачка сердца, от которой он приходил в отчаянную панику. Чтобы не слышать сердце и освободиться от безотчетного страха, бежал за водой, с ходу опрокидывал ведро под яблони, мчался обратно к болотцу. Запыхается, споткнется, обольет брюки — это не раздражает его: отвлекся от пронизанной жутью пульсации. Пусть сердце скачет быстрей, больнее, лишь бы потерялся в нем ужас, от которого некуда деться.