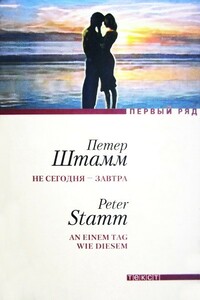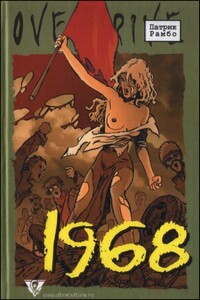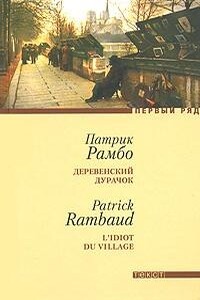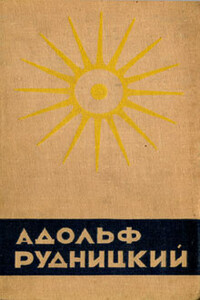— Мы ваши инструменты на куски разнесем!
Сент-Обен сорвал с себя двурогую шляпу в форме полумесяца и с широким жестом отвесил демонстративный мушкетерский поклон. Обращаясь к неуступчивому генералу Мену, он возгласил:
— Господин барон, в память о покойном короле, чьим слугой вы некогда вступили в Генеральные Штаты, не марайте себя этой кровавой песенкой!
— В то утро в предместье я заслужил ваше доверие? Да или нет?
— Да.
— Тогда вы должны в этом деле положиться на меня.
Раздался новый взрыв криков: появился гренадер, посланный в Конвент, он рысцой подбежал к Мену и встал перед ним. Тот спросил:
— Что они решили?
— Ничего, мой генерал.
— Что за чушь ты несешь?
— Конвент предоставляет это на ваше усмотрение.
Возвысив голос так, чтобы вся орда мюскаденов слышала его, Мену объявил:
— Господа, я удовлетворю ваше желание, но прошу вас дать моим людям пройти.
Он выстроил гвардейцев в две шеренги, флейтистов вперед, и приказал:
— «Пробуждение народа».
Музыканты заиграли пресловутый мотив Гаво, и тут же молодые люди запели хором — все, кроме тех, кто кричал:
— Да здравствует генерал Мену!
— Смерть якобинцам!
Поскольку национальные гвардейцы отставили свои ружья, чтобы поаплодировать, мюскадены сочли себя победителями и поспешили в Пале-Рояль, чтобы это отметить.
В прихожей апартаментов Барраса снедаемый бешенством Сент-Обен уже готов был разобраться по-своему с невозмутимым, лысым, как колено, дворецким, который отказывался пропустить его в гостиную:
— Повторяю вам, молодой человек, что гражданин депутат не терпит, когда к нему врываются во время обеда.
— Доложите обо мне!
— Назовите ваше имя, я передам.
— У меня срочное дело!
— А мне даны указания.
Дверь в коридор оставалась приоткрытой, так что Сент-Обен видел прислугу, снующую с серебряными подносами, где громоздились то куча фаршированных перепелов, то целый молочный поросенок, испеченный на вертеле, то отбивные с косточками, которые украшали папильотки из прихотливо закрученных бумажных лент. Разъяренный бесстрастным упорством лакея, молодой человек взмахнул тростью и вдребезги расколотил китайскую безделушку на эбеновой подставке. Дворецкий схватил Сент-Обена за его траурный черный воротник и приготовился вышвырнуть за порог, но тут дверь коридора распахнулась во всю ширину и появился Баррас с повязанной вокруг шеи салфеткой и кроличьим окорочком в руке. Потревоженный шумом, он досадливо хмурил брови:
— Ого! Вам уже мало буянить в парке под моими окнами, вы еще позволяете себе заявиться сюда, чтобы все здесь переколотить?
— Мне есть на что жаловаться! — взъерепенился Сент-Обен, пользуясь тем, что дворецкий больше не держал его за шиворот.
— И какого же дьявола?
— Вы отпускаете из тюрем опасных якобинцев, которых мы туда засадили, вы узаконили их песни, вы…
— После той истории в предместье вам выдали прекрасные свидетельства, подтверждающие доблесть, проявленную вами при участии в событиях. Разве этого не достаточно?
— Ах нет! И в следующий раз мы уж не придем на помощь Конвенту. Он дурно обходится с теми, кто его защищал.
Баррас отхватил от кроличьего окорочка изрядный кус и с полным ртом произнес следующую тираду:
— На что вы можете сетовать в конечном счете? Защищая Конвент, вы всего лишь исполнили свой долг, к тому же это было в ваших интересах. В том, что вы нас поддержали, больше выгоды для вас, чем для нас — проку в вашей помощи. И вы прекрасно знаете, что ваши головы при Терроре были в такой же опасности, как наши. Мы ничего вам не должны.
Сент-Обен развернулся к выходу, презрительно бросив напоследок:
— Приятного аппетита!
Дворецкий захлопнул дверь у него за спиной, а Баррас вернулся к своим гостям. Садясь за стол между Розой и Розали, он заметил последней:
— Твой любовник становится обременительным.
— Он вспыльчив, но ему же пришлось такое пережить…
— Брось! Делормель мне рассказывал. Разве только у него одного убили семью?
— Это еще не причина становиться заговорщиком на жалованье у роялистов, — заявил еще один гость, мужчина с длинными седеющими волосами.
То был популярный писатель Луве, автор фривольных «Похождений кавалера Фобласа», жирондист, приговоренный Робеспьером к пожизненному изгнанию. Не кто иной, как он, с трибуны Конвента потребовал суда над революционным комитетом Нанта, родного города Сент-Обена, и разоблачил, притом в деталях, чудовищные зверства Каррье. Так же как Фрерон и Тальен, он поначалу поддерживал выходки мюскаденов. Ныне как член Комитета общественной безопасности он уже находил их невыносимыми. Даже фаршированный перепел не заставил Луве забыть о своем гневе.