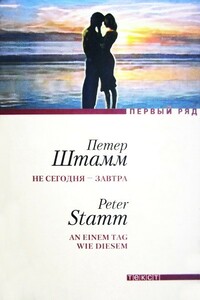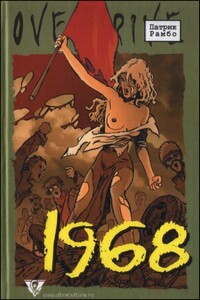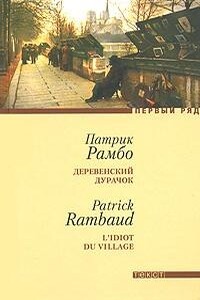— Я вижу кровь, — сказал он ей.
— Это цвет моей кареты…
— Успокойся, кровь это не твоя… Э, да ты окружена мужчинами, среди них тот, кто важнее прочих, он в Конвенте один из первых лиц… Вижу и другого, помоложе, это принц…
— Так я стану принцессой?
— Карты утверждают это.
Терезия побледнела, ей вспомнилось предсказание маленького корсиканского генерала, услышанное как-то вечером в Хижине, как приятели Барраса любили называть ее жилище. Затем пришел черед Розы. Мартен снова перетасовал карты, снял, разложил, пригляделся к ним и сказал:
— Деньги. Все время деньги. Много. Роскошные туалеты, игра, дворцы… Солдат… Он путешествует…
Мартен ткнул пальцем в карту Европы, развернутую у него на столе. Он показывал на Италию.
— А что потом? — спросила Роза.
— Ты станешь императрицей.
Прогуливаясь в сопровождении Жюно июльским вечером по Ботаническому саду, который недавно увеличили, присовокупив к нему зверинцы Версаля и Трианона, Буонапарте остановился перед новой статуей Бюффона, грызя кусок только что купленной у ларечницы поджаренной кровяной колбасы.
— Он из твоих краев, Жюно.
— Кто, статуя?
— Бюффон умер в Монбарде, это ваши места, твои и Добантона. А знаешь, что там, в пьедестале?
— Камень…
— Его мозжечок.
Нанеся визит натуралисту Добантону (тому, кто вывел барана-мериноса), с которым был знаком родственник Жюно — его дядюшка по материнской линии, каноник и специалист по пчелам, — генерал вынудил своего адъютанта предаться медитации перед скелетом Тюренна, помещенным между остовами носорога и слона. Теперь же они шли под арками, увитыми розами, и беседовали так:
— Жюно, тебе известно, как военачальник Сулла вернул себе утраченное богатство?
— Он ограбил Грецию, ты мне уже говорил об этом.
— Нет. Он унаследовал состояние богатой куртизанки.
— Ты хотел бы ему подражать?
— Если это возможно.
— Ты подумываешь о мадам Тальен?
— Баррас мне этого не простит.
— Так тебя заинтересовали деньги семейства Клари?
— О нет!
Наполеон более не помышлял о денежках четы Клари и того меньше — об их дочке Дезире, что путешествовала сейчас близ Генуи со своей сестрой и ее супругом Жозефом, старшим братом генерала. Его мамаша Летиция с дочерьми и маленьким Жеромом жила в Марселе на хлебах семейства Клари, богатых суконщиков с улицы Каннебьер, и если бы Буонапарте женился на Дезире, это принесло бы ему состояние, но мог ли он вообразить, что будет влачить существование, выращивая дыни где-то между Грассом и Маноском? Она была милашкой, эта Дезире Клари; в ту ночь, когда он обнаружил ее у себя в комнате, где она затаилась, дрожащая, в одной сорочке, он без колебаний опрокинул ее на кровать; однако в Париже его провинциальные грезы рассеялись без следа. Буонапарте открыл свое истинное лицо в повести «Клиссон и Эжени», которую сочинял в тайне: «Эжени было шестнадцать; красивые глаза, сложение заурядное. Не будучи дурнушкой, она не была и красавицей, но доброта, кротость, нежность…» Клиссон, молодой военный гений, похожий на Буонапарте, словно близнец, влюбляется в эту девушку, разом отказываясь от бранной славы. Но сельское мирное житье ему со временем надоедает. Как только правительство призывает его, он бежит на зов. Тотчас начинает одерживать победы, его имя у всех на устах, бедная Эжени терзается. Он любит ее, но предпочитает войну… И образ Эжени, то есть, надо понимать, Дезире Клари, мало-помалу стирается из его памяти.
Жюно, верзила Жюно, не зная, куда девать свои длинные руки, неуклюже топтался перед ним, словно утка.
— Вижу, — сказал Буонапарте, — ты хочешь меня о чем-то попросить.
— Ты же сам знаешь.
— Нет, скажи.
— Полетт.
— Паолетта, моя сестра?
— Да…
— Ты все еще хочешь жениться на ней?
— Что за вопрос? Конечно! Напиши ей, потом своей матери напиши, ведь ты же настоящий глава семьи, разве нет? А твой отец?
— Он все знает.
— Что он говорит?
— Я от него получил письмо сегодня утром. Пока он ничего не может мне дать, но однажды придет день, когда я получу в наследство двадцать тысяч франков… Тысячу двести ливров ренты…
— Вот именно, но когда придет этот день?
Без единого слова они, стоя на барке, переправились через Сену возле винной пристани, затем дошли пешком до Бастилии и бульваров, а оттуда зашагали к центру Парижа. Толпа становилась все гуще, шум тоже нарастал. По пути попадались старьевщики, кафе с оркестрами, торговцы мебелью, лавчонки, где в который раз перепродавали за бесценок юбки казненной королевы, придворные кружева и наряды, украденные из Версаля. На бульваре Тампль они миновали представление дрессировщика диких зверей, он демонстрировал ржущей толпе своих ученых бабуинов — те, как истинные патриоты, плевались при виде злых собак, готовых вцепиться в глотку любого зеваки, произносящего «аристо» — презрительно сокращенное словцо, с некоторых пор совершенно одиозное. На боковой аллее, перед Китайскими банями, столь модными в ту пору, Буонапарте наконец соблаговолил разомкнуть уста: