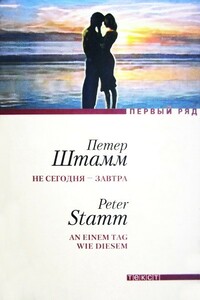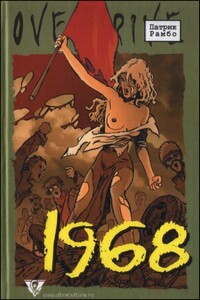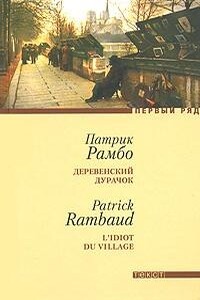— Да погляди же! Хочешь, мы все это взаправду проделаем у меня в будуаре?
Он оттолкнул брюнетку, с грехом пополам ускользнул еще от какой-то бедовой бабенки, попросту задравшей перед ним юбки, и от другой, более светской, которая взяла его за руку. В тот вечер Буонапарте не тянуло к фривольностям, и он решил улизнуть через парадный вход дворца. Но там его настигла публика иного рода. Перекупщики в лисьих шапках, с торчащими изо рта зубочистками, гордо именовавшие себя «ажиотёрами», людьми действия, а свои занятия — «ажиотажем», сгрудились на лестницах и назойливо совали проходящим кто английский карандаш, кто серебряные вилки.
— Вам перчатки не нужны?
— Может быть, гражданин ищет сахар?
— У меня есть сапоги вашего размера.
— Брильянтов не надо?
— А перцу?
— Угля не желаете?
— Нет! — твердил Буонапарте. — Я ничего не хочу!
— Гражданин, — окликнула его какая-то гладильщица, — могу вам предложить сто пар башмаков…
— У меня только две ноги!
— А если всего по четыре сотни ливров?
— На них же швы разошлись, на ваших башмаках! Они будут промокать.
— Эти башмаки не для того, чтобы носить, а чтобы продавать. Вы у меня их возьмете, потом перепродадите по четыреста десять за пару, тысячу франков на них выручите.
— Тысячу?
— Вам только надо продать их какому-нибудь гражданину, он сразу перепродаст, тоже свою тысячу франков получит и так далее.
— Нет! Нет!
В кишащей клопами наемной квартирке на улице Моннэ, напротив конюшни почтовых лошадей, обслуживающих Дрё, Буонопарте скоротал всего одну ночь, чтобы тотчас перебраться на улицу Юшетт в «Синий циферблат» — гостиницу тесную, но почище. Комната там была сносная. Стены, впрочем, облупились, почернели от копоти за все те зимы, когда здешняя печь топилась углем. В наличии имелись таз, глиняный кувшин, ночной горшок, который хозяйка с криком «Берегись!» выплескивала в окно, складная брезентовая кровать, сундук. Комната выглядела почти голой и пахла кошками, а в мае месяце речи не могло быть о том, чтобы открыть окно: Буонапарте, как южанин, был зябок, погода же в эту пору еще сырая, прохладная.
Пока его свеча еще не догорела, он взял читаный и перечитанный том Плутарха. Когда-то Паоли, предводитель корсиканских борцов за независимость, ныне переметнувшийся к англичанам, говорил ему: «Наполеон, в тебе нет ничего от современности, ты принадлежишь дням Плутарха». Слыша это, он трепетал от удовольствия. Воображал себя древнеримским героем, чувствовал, как в нем бродит сила Муция Сцеволы, зажавшего в ладони раскаленный уголь, или Горация Кода, в одиночку остановившего войско Порсенны на мосту Сублиций. Когда Буонапарте листал Плутарха, перед ним чередой мелькали имена тех, кто был для него образцом: Ликург, Алкивиад, Кай Марий, Сулла… Сулла! Генерал Сулла (по привычке Буонапарте мысленно наделял полководцев прошлого современными воинскими званиями) никогда не вмешивался в политику иначе как только затем, чтобы захватить власть. Совсем как Буонапарте, готовый продать свою шпагу, но только наш генерал любил безграничную власть еще больше Суллы.
Посмотрите, как он сидит, опершись локтями о стол и подперев щеки кулаками. Жидкие волосы болтаются, чуть ли не метут страницы. Его профиль танцующей тенью прыгает по стене. Он грезит. Вот Александр Великий, окруженный колдунами, его образец и двойник, предпочитавший военачальников всем женщинам, сам-то жалкий воин, организатор по преимуществу, уже романтик, визионер, порой жестокий, иногда нежный, суеверный, полный обаяния, стремительный… А еще Филипп, его отец, одноглазый, со сломанным плечом, покалечивший в сражении руку и ногу, склонный постоянно нарушать свои обещания: он знал, что правитель вынужден лгать и убивать… Буонапарте закрывает глаза. Чтение лишь подогревает ярость, тлеющую глубоко, на самом дне его сознания. Александр был царем в двадцать лет, а ему уже двадцать пять. Целых пять лет загублены понапрасну! Сколько ему еще ждать? Нетерпение подтачивает. Он ведь всегда торопился. Его мать едва успела увидеть, как он родился: она еще до кровати не дошла, как Наполеон уже выскочил из ее чрева, попросту выпал на греческий ковер с мотивами из мифологии, вопящий, весь в крови, словно говяжий окорок.