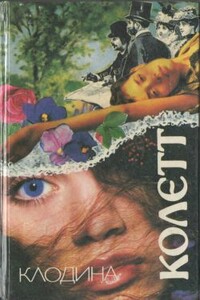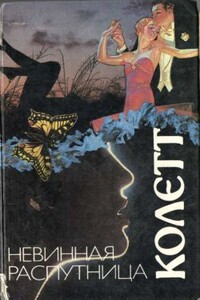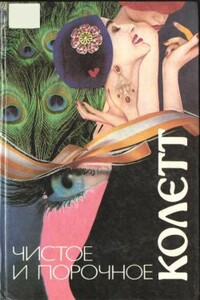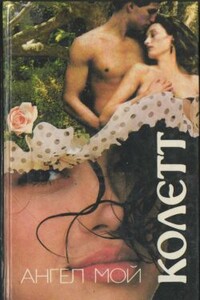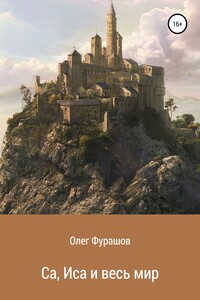– Наш сад, Саха…
Он слышал, как она скользнула на волю и, полный нежности к ней, не стал ей мешать. Он возвращал, посвящал ей ночь, свободу, рыхлую, мягкую землю, бодрствующих насекомых и спящих птиц.
За жалюзи на первом этаже горела, ожидая его, лампа. Ален нахмурился: «Слова… Слова… Объяснения с матерью… А что объяснишь? Это так просто… Это так трудно…»
Ему хотелось лишь тишины, комнаты в букетиках неярких тонов, постели, но особенно ему хотелось плакать, рыдать непрерывно, точно кашляя – хотелось тайного, скрываемого от всех утешения…
– Входи, милый, входи!..
Он редко захаживал в материнскую комнату, с детства эгоистически ненавидел капельницы, коробочки, наперстянки, тюбики гомеопатических снадобий и сохранил эту нелюбовь. Но сердце его растаяло при виде простенькой узенькой кровати и женщины в шапке седых волос, приподнявшейся в постели, опираясь на руки.
– Ничего страшного, мама, не путайтесь…
Эти нелепые слова он сопроводил улыбкой, раздвинувшей одеревеневшие щеки вправо и влево, и сам её устыдился. Усталость вдруг обрушилась на него, напускная его бодрость стала настолько очевидна, что он смирился. Он сел в изголовье и развязал шейный платок.
– Прошу извинить за мой вид – пришёл в чём был… В такой поздний час, не предупредив…
– Нет, ты предупреждал, – возразила госпожа Ампара.
Она бросила взгляд на пыльные туфли Алена.
– В такой обуви только бродяги ходят…
– Я прямо из дома, мама. Довольно долго пришлось искать такси, да кошка ещё…
– Вот как! – с понимающим видом заметила она. – Ты и кошку прихватил!
– Разумеется… Если бы вы знали…
Он умолк, сдерживаемый какой-то непонятной стыдливостью. «О таком не рассказывают. Это не для материнских ушей».
– Камилла не слишком жалует Саху, мама.
– Знаю, – бросила в ответ мать.
Она принуждённо улыбнулась, колыхнула взбитыми волосами.
– Это очень даже нешуточное дело!
– Для Камиллы – да, – вторил ей Ален недобрым голосом.
Он встал, походил среди мебели в надетых на лето чехлах, как принято в захолустных городках. Как только он решил не выдавать Камиллу, ему стало не о чем говорить.
– Знаете, мама, обошлось без битья посуды… Стеклянный столик цел, и соседи снизу не приходили спрашивать, что происходит. Мне нужно лишь немного… одиночества, покоя… Не скрою от вас, я больше не могу, – выпалил он, присаживаясь на кровать.
– Ну, от меня ты и не скрывал, – подтвердила госпожа Ампара.
Она нажала ладонью Алену на лоб, запрокидывая к свету его лицо, мужское лицо, где начинала отрастать светлая бородка. У него вырвался какой-то хнычущий звук, он отвёл глаза, то и дело менявшие цвет, и нашёл в себе силы ещё отсрочить поток слёз, какими жаждал облегчиться.
– Мама, если моя старая кровать не застелена, я укроюсь чем угодно…
– Твоя постель готова, – успокоила его мать.
Он обнял мать, поцеловал её в глаза, в щёки и волосы, ткнулся ей носом в шею, пролепетал «спокойной ночи» и пошёл прочь, шмыгая носом.
В прихожей он, воспрянув духом, не стал тотчас подниматься к себе, послушный зову ночи на исходе и Сахи. Далеко он не пошёл, ему довольно было крыльца. Он сел в темноте на ступеньку, вытянул руку и коснулся меха, чутких усов и прохладных ноздрей Сахи.
Она вилась то вправо, то влево, следуя особому обряду ластящейся хищницы. Кошка показалась ему совсем маленькой, лёгкой, как котёнок. Ему хотелось есть, и поэтому он думал, что и кошка голодна.
– Утром поедим… Скоро уже… Скоро рассвет… От Сахи уже пахло мятой, геранью и самшитом.
Она покоилась в его ладонях, доверчивая и недолговечная – вероятно, ей было отпущено не более десяти лет жизни – и он страдал, размышляя о быстротечности столь великой любви.
– После тебя я стану принадлежать любой, какая только пожелает… Женщине… Женщинам… Но никакой другой кошке.
Дрозд просвистел четыре ноты, громом раскатившихся по саду, и смолк, но проснулись другие пичуги и защебетали в ответ. На лужайке и в цветниках начали обозначаться прозрачные краски. Ален различал уже хмурую белизну, закоченелый красный цвет, от которого веяло ещё большим унынием, чем от чёрного; островки жёлтого, вклинившегося в зелёное пространство: быстро насыщавшуюся цветом жёлтую округлость цветка, парившего среди глазков и лун… Пошатываясь, засыпая на ходу, Ален доплёлся до своей комнаты, скинул одежду, отвернул одеяло на застланной кровати и отдался в прохладный плен простыней.