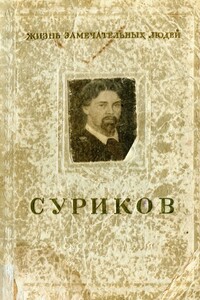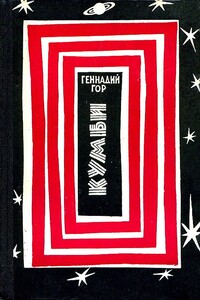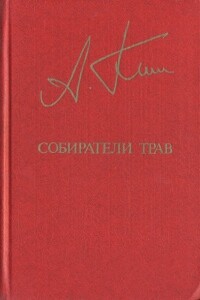— Поставили чучело, — думаешь ты, — живого человека. Озорники. Хоть поставили бы меня в моем огороде. Но поставить меня здесь, в колхозе, заставить меня охранять чужой огород, ваш огород. Извините, это я не могу.
И вот ты кричишь им и грозишь кулаком.
— Снимите, — кричишь ты, — озорники. Не то я подам в суд.
Но тебе возражают — нельзя.
И ты говоришь:
— Нет такого закона, чтобы живых людей употреблять вместо чучела.
И тебе возражают:
— Он не живой. Это не человек. Это, как бы сказать, только модель, чучело человека.
И ты возмущаешься:
— Это я не живой? Я покажу вам, какой я не живой! Я живой!
И тебе отвечают:
— Вы живой, мы в этом не сомневаемся. Но этот человек не живой. Это чучело, изображение, и не одного человека, например вас, а целого класса.
— Класса. Изображение, — рассуждаешь ты, — теперь понимаю. Так это не я.
И ты спрашиваешь:
— Так это верно, что это не я? Вы не врете?
— Нет, это не вы.
Ты уходишь, заложив руки за спину. Свои руки, думаешь ты, за свою спину. Но тебя догоняет крик:
— Это ты! Это ты!
И ты останавливаешься. Ты стоишь, как чучело. Два чучела: одно в огороде, другое на дороге, два кулака, два тебя.
И ты размышляешь.
— Где же я и где он? Это я или это он?
И с тех пор ты живешь двойной жизнью, своей и огородной. Ты охраняешь чужой огород.
Так тебе отомстили ребята.
Катерина Оседлова — имя этой «бабы», той самой беременной женщины, жены батрака. И слово Катерины переходит в дело, по крайней мере, то слово, которое она дала пионерам.
Она берет своих кур, одну в одну руку, другую куру в другую, все свое имущество, и говорит мужу, говорит батраку:
— Я иду в колхоз.
— А как же я? — спрашивает муж.
— И ты иди в колхоз.
— Но если я не могу? Ты знаешь, я работаю у Петухова. Что скажет Петухов?
— Хочешь, иди, — говорит Катерина, — а хочешь, не ходи. Я пойду.
— Как же ты пойдешь? Ты мне жена.
— Жена, — отвечает Катерина, — а пойду я вот так. — И показывает, как она пойдет, другими словами, идет. Она доходит до дверей, выходит во двор, но муж догоняет ее. Он кричит:
— Постой! Постой! Погоди. Зря идешь. Теперь в колхоз не берут. Поздно.
— Меня возьмут, — отвечает Катерина. И идет дальше.
— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Вперед нужно написать заявление. Разве ты не знаешь, что без заявления не берут? Обожди.
— Нечего ждать, — отвечает ему Катерина. — Мне там напишут. Люди грамотные.
И она идет дальше.
— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Куда торопишься? Обожди до завтра. Завтра пойдешь. Завтра и день лучше. Сегодня понедельник. Плохая примета. Старики говорят. Они знают, не ходи.
— Мы с тобой не старики, — отвечает Катерина. — Пускай старики сидят. А я пойду.
И идет.
— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Мне надо тебя спросить… Всего одно слово…
— Спрашивай, — говорит Катерина.
— Я тебя бил? — спрашивает муж.
— Нет, не бил.
— За волосы таскал?
— Нет, не таскал.
— Пьяным приходил?
— Нет, не приходил.
— Почему же ты от меня уходишь? — спрашивает муж.
— Я от тебя не ухожу, — отвечает Катерина.
— Как же ты не уходишь, когда ты уходишь в колхоз?
— И ты тоже иди.
— Я не могу, — говорит муж, — мне Петухов коня обещал, только чтоб в колхоз не ходил. «Будешь хозяином», — сказал он. Буду хозяином. Ни разу не был хозяином. А ты хозяйкой.
— Ну и живи хозяином у себя, — говорит Катерина. — У тебя будет один конь. А у нас триста. У тебя будет одна корова, а у нас пятьсот. Прощай. Я пойду.
И идет дальше.
— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Ты говоришь триста, так они не твои, они общие. А то — мой.
— Мои или не мои, — отвечает Катерина, — а работать на них буду и я. И не на кулака, а на себя и на общество. Ну, я пойду, а то опоздаю. Увидимся. Я иду.
И она идет дальше.
— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Погоди. Ты и вправду идешь?
— Вправду, — отвечает Катерина.
— А как же ты идешь? — спрашивает он.
— Вот так, — говорит Катерина и показывает, как она идет, то есть идет.
— Да так и я могу, — говорит муж и тоже идет. — Постой! Постой! — догоняет он ее. — Погоди.
— Нечего мне ждать, — говорит Катерина. — Я уже пришла. Видишь, контора.
— Так, значит, и я пришел, — догоняет ее муж.