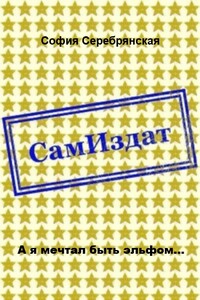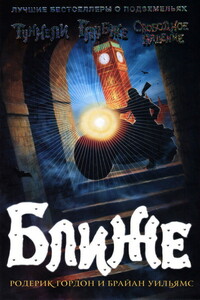Со рта убралась тряпка под очередной взвизг коротышки и гогот Гиндгарда:
— Во, видал?! Я этих остроухих много порезал… Да чтоб шлюхи какой-то бояться? Низко, он говорит, на бабе срываться. Низко! — уберите, уберите, уберите! — А кабы не услыхали? Околдовала б кого, точно говорю! Вот, значит, сосунку урок — нечего лезть, мужчина лучше знает! Знатный, как же… Дерьмо у него, бьюсь об заклад, не с позолотой, а руки, ноги — всё из мяса, всё топором рубится. От титьки оторвался — и командовать! Правильно говорю, а, шлюха?
Шантия жмурилась, давилась рыданиями — только бы не пришлось сглатывать, нож слишком близко, почти вдавлен в кожу, — и слабо дёргала головой вверх. Пусть поймёт, она кивает, она согласна, с чем угодно согласна, только не убивайте, пожалуйста!
— Чего дрыгаешься? Отвечай! Правильно говорю, а?! — за волосы дёрнули, заставляя запрокинуть голову. Не надо, во имя богини, не надо убивать, сейчас найдутся остатки голоса, уже почти!
— П-правильно…
— Ишь, не уважает, шлюха, нашего «прынца»! — Гиндгард вновь рассмеялся. Неужели ему и в самом деле смешно мучить других, смешно видеть, как она плачет, пытается избежать даже малейшего пореза — а нож почти вплотную, давит сильнее, сильнее. — Может, прямо тут и порешим, а? Скажем — чародействовать полезла. Ну мы её, значит, и присмирили, чтоб наверняка.
Шантия скосила глаза на коротышку — только бы не начал вновь трястись, визжать, мямлить! Ведь прикончит же, зарежет назло только слабохарактерному «сосунку». Страшный, страшный мир людей: за оскорбление человека высшей разновидности тебя нормально убить, за кого-то из низшей разновидности тебе не скажут и слова. Не нужно думать о стали и крови; лучше — о хорошем, о серебряном лунном свете, о невесомом теле, что так легко проскользит над склонившимися в прощальной скорби волнами…
— А-а как же лорд? Ему не понравится… девчонка ж его!
Затихнет море, и души потянутся вереницей к горизонту, туда, где уже ожидают их ласковые объятия богини; замрут в молчании и небеса, и суша, и звёзды. Не страшно умирать, совсем нет: смерть — она не навсегда, смерть — это не мерзкий запах, исходящий из вспоротого брюха, не мутные, гниющие глаза, не личинки насекомых, копошащиеся за порванной щекой, нет, нет, нет…
А потом Шантию отшвырнули на пол, и она схватилась за горло — вдруг по нему уже полоснули, вдруг она не заметила боли, вдруг… Пальцам стало мокро — и она бы закричала, если бы не тряпка, вновь кое-как запиханная в рот.
— Пущай посидит. Раз ведьма, значится, не развалится. Видал, трясётся! Чего, шлюха, думаешь, пожалеют тебя? Да лорд, как узнает, что ты колдовала, сам тебе язык и руки повыдергает! А я б и глазки выколол. Пялишься больно нагло!
Она торопливо закрыла глаза: не плакать, спрятаться, насколько это возможно в старой камере, не издавать ни звука. А всё-таки хочется посмотреть на пальцы. Что там — кровь? Слёзы?
— Пойдём, выпьем. Мы ведьму сторожили, нам положено.
— А-а вдруг убегнет?
— Да куда денется! Вон, двинуться не могёт! Пошли, пошли!
Уходя, стражники остановились на мгновение — лишь затем, чтобы задуть жалкие свечи.
В холодном подземелье вовсе не осталось света.
Совсем рядом, омывая потемневший песок прохладой, шелестели волны.
Пейзаж, так хорошо знакомый — море, море до самого горизонта, и лишь только вдалеке выглядывает из тумана кромка соседнего островка. Там, на острове, нет ничего: не растут деревья, лишь изредка садятся пролетающие чайки. И не суша это вовсе — скорее, кусок скалы, по какой-то нелепой случайности едва-едва приподнявшийся над беспокойными водами. Посреди скалы Шантия видела каменное дерево, на ветвях которого висели то ли клочья тумана, то ли опустившееся слишком низко и зацепившиеся тучи. Тут и там — красные ленты: одни — почти бесцветные, выцветшие, другие же ярки, как гранаты.
Рассекает волны нос лодки. То ли вёсла слишком тяжелы, то ли слабы руки: нет, правильно говорит отец, что детям в одиночку не стоит выходить в море, пусть даже так недалеко. Но упрямство гонит вперёд, и пусть руки даже отвалятся, а на ладонях останутся мозоли и следы от стёршейся краски: близко, близко пляшущие на ветру ленты.