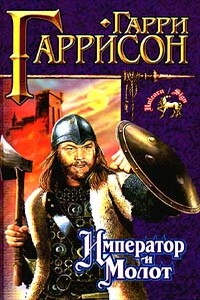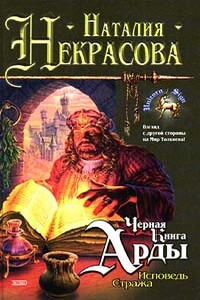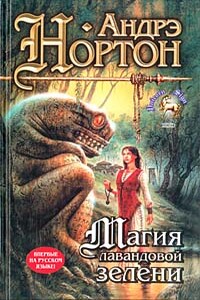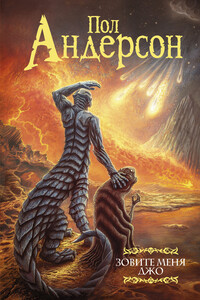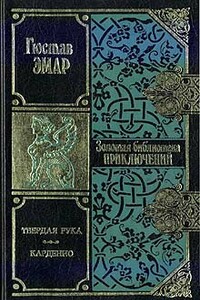Однако вскоре Хокон стал проводить большую часть времени в кровати. Он ел и пил не больше, чем требовалось, чтобы поддержать силы. Но он говорил, что не болен; ему просто было необходимо думать, думать много и глубоко. Часто он проводил ночи без сна и не отвлекался ни на какие малозначащие дела; даже не вспоминал о женщинах, без которых прежде не проводил ни одной ночи. Он допускал к себе лишь несколько человек, и среди них был Харальд Золотой. Они входили с любопытством, а выходили с чувством благоговения. Это было неслыханно. Независимо от их веры они вспоминали о Мимире, том самом, с головой которого Один держал совет.
Гуннхильд знала лишь те новости, которые доставляли мореплаватели. Там, вдали, возвышалась стена, все двери которой были наглухо заперты. Ласточка не могла ни видеть, ни слышать того, что происходило под крышами. Тень не могла проскользнуть мимо сил, стоявших на карауле, были ли то святые Харальда Синезубого, ненавидящие колдовство, или ястреб-валькирия ярла Хокона. Гуннхильд видела их в видениях, когда темными ночами била в бубен и пела заклинательные песни. Когда же она бросала руны, то они не показывали ничего осмысленного. Это само по себе служило дурным предзнаменованием.
И лишь позже — слишком поздно — она что-то узнала.
Несмотря на приближавшуюся зиму, корабли все еще резали волны морей, окружавших королевства. И Хокон послал в Траандхейм один из своих драккаров с командой из преданных ему людей, принадлежавших к самым почитаемым семействам. Корабль, никем не замеченный, вошел в маленькую бухту; там его хорошо спрятали и оставили. Прибывшие купили лошадей у окрестных жителей, которые всей душой стремились помочь, чем могли, и отправились в объезд Траандло. Они посещали поселение за поселением и вели беседы с бондами, которых больше всего уважали в округе. Они слушали рассказы о том, насколько плохо приходится трондам при короле Эрлинге, а сами уговаривали народ готовиться к тому, чтобы зимой собраться и убить его. Прежде чем братья смогут отомстить, наступит лето, возвратится ярл Хокон и освободит их.
Так оно и вышло. На Рождество, когда Эрлинг пировал с присягнувшими ему ярлами областей, лежавших в глубине страны, войско, собравшееся со всего Траандло, смело его стражу и ворвалось в дом, подобно тому, как в бурный день прилив врывается в каменистую бухту. Много бондов были убито, но дружинников полегло больше, а вместе с ними погиб и король.
В эти скудные годы народу удавалось мало чего сберечь для того, чтобы принести в жертву богам. И потому мятежники повесили тех своих врагов, которых им удалось захватить живьем, а костры, зажженные в честь богов, ярко пылали. Таким было жертвоприношение с просьбой о лучшем будущем.
Эта новость прилетела на юг, к Гуннхильд, быстрее, чем могли бы ее донести лошадиные копыта или корабельный киль. Она пробудилась глубокой ночью от крика. Потом долго лежала без сна. Но не плакала. Пока еще не плакала. А возможно, и никогда больше не заплачет. Возможно, все слезы, что имелись у нее, уже были истрачены.
Утром она велела позвать к ней Харальда Серую Шкуру. Одного.
— Эрлинг мертв, — сказала она сыну, когда тот закрыл за собой дверь.
Он уставился на нее.
— Что? Откуда ты знаешь?
— Из сна.
Он нахмурился.
— Тебе приснился кошмар?
— Да, но этот был правдив.
Король перекрестился.
— Мать, тебе известны вещи, которые… — он осекся. — И что же ты увидела во сне?
— Толпа разъяренных крестьян, слишком большая для того, чтобы можно было от нее отбиться. Он умер, как твой отец, побежденный, но не сломленный. Они выкрикивали имя ярла Хокона. А кто другой мог подбить их на это?
Харальд прищурился.
— Мы должны подождать настоящего известия, — медленно сказал он. — И даже не одного. А пока что будем надеяться, что твой сон был обманным.
— Он не был обманным, — возразила Гуннхильд. — Я говорю тебе об этом сегодня, чтобы то известие, о котором ты говоришь, не обрушилось на тебя, как волна прибоя. Мы должны сейчас же начать думать о том, что делать.
— Конечно, заупокойные службы… — Харальд перевел дыхание. — Вместе со службами по Сигурду.