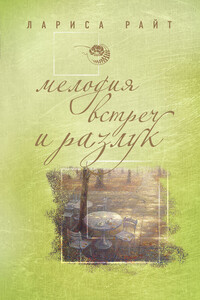И он побрился, а она… Она получила оплеуху. Оплеуху, от которой звенело в ушах до сих пор, через столько лет, спустя столько событий. И звенело не потому, что она была слишком сильной или жутко болезненной, а только из-за того, что пощечину эту Дина получила заслуженно. Хотя эта простая истина открылась ей много позже, а тогда: скупые слезы, сжатые губы, решительное швыряние вещей в чемодан и полное равнодушие к рыданиям, просьбам и уверениям в том, что больше ни за что и никогда. Точки над «и» поставлены, чемодан собран. Десять минут в такси, и…
– Привет, я поживу у тебя? – Дина стоит на пороге у Марка.
Он с интересом рассматривает ее все еще красную щеку и изрекает:
– Ты меня пугаешь.
– Не бойся, на место в твоей постели я не претендую.
– Ладно. – Он пропускает подопечную в квартиру и говорит тихо, но достаточно внятно для того, чтобы она все же услышала: – Жаль, что не претендуешь.
– Забудь, – бросает она, закрывая за собой дверь в ванную. Включает кран на полную мощь и только тогда позволяет себе заплакать.
О чем она плакала тогда? О разрушенной любви? О потраченном времени? О поруганных чувствах? Или всего лишь о неудавшейся роли жены декабриста? Потерять роль было особенно жалко. Дина попробовала сыграть на бис.
– Вот, – она положила на стол конверт, – здесь, конечно, не так много, но на хлеб с маслом хватит.
– Мне ничего не надо. – Глаза Михаила сузились, кулаки сжались. На мгновение женщине показалось, что он снова ударит ее, но обошлось. – Забери! – Он резко отодвинул от себя подачку.
– Мишенька, – и куда только подевался «глупенький дурачок», – не делай из меня монстра, пожалуйста. Тебе же надо как-то жить.
– А я живу, – многозначительная пауза, – как-то…
– Ладно, как хочешь. Я еще зайду.
– Заходи.
– Привет, как ты? С бритвой по-прежнему не дружишь?
– …
– Миш, ну, оглянись вокруг, что за бардак?! И сколько бутылок кругом. Разве можно столько пить?
– «Большие мальчики в няньках не нуждаются».
– Ну, я пойду тогда…
– Иди.
И еще через месяц:
– Миш, я тебе приглашение принесла.
– Ку-у-да? За-а-а-чем?
– Фу, ты совсем теперь не просыхаешь, что ли?
– Ди-и-инка! Ка-а-а-кие люди! Сади-и-ись. Выпить хочешь?
Дина смотрела на еще недавно блестевшую чистотой комнату и не верила своим глазам: на ковре выделялись следы грязных подошв, слипшиеся комья грязи чернели не только на полу, но и на подоконнике, на столе и даже на стенах, будто по ним тоже ходили. Стол был уставлен грязными чашками и тарелками с остатками уже протухшей еды, в которой, ничего не боясь, среди бела дня копошились тараканы.
– Миша, – она брезгливо поморщилась, подавляя приступ тошноты и желание выскочить отсюда немедленно, – так жить нельзя!
– А я и не живу, Ди-и-инк! Садись давай, не ерепенься. – И он мазанул рукой по серым смятым простыням со следами мочи и рвоты. – У тя выпить есть?
– Нет.
– А че приперлась тогда? Вали отсюда!
– Миш, я вот билет принесла, контрамарку. У меня бенефис в Новосибирске, а потом, знаешь, мы в Питер едем. И еще Марк с Москвой переговоры ведет, так что видишь, как все хорошо складывается.
– Лучше не бывает. – И он загоготал страшным, зловещим смехом, от которого по Дининой спине запрыгали мурашки. Мурашки же заставили ее резко развернуться и броситься к выходу из квартиры, они же приняли на себя неожиданный удар от прозвучавшего в спину укора соседки:
– Разве приглашения ему надо носить?
То, что муж не нуждался в контрамарках, было очевидно и самой Дине. И она честно попыталась проявить человеколюбие, выполнить миссию если не жены декабриста, то хотя бы матери Терезы. Но, как и любой актрисе, ей был необходим режиссер или автор сценария, который бы продумывал мизансцены и реплики и расставлял бы персонажей по сцене. Но режиссера у пьесы не было, а потому и роль снова оказалась провальной. Ни цветов, ни аплодисментов, ни криков «Браво!».
– Здесь котлеты, а в том судке биточки. Ты поешь, я сама готовила.
– Решила заменить духовную пищу нормальной едой? С каких это пор мясо важнее Сен-Санса?
– Зачем ты так? – Дина пыталась сдержаться, но все же презрение, против воли, проскользнуло в ее тоне. На сей раз муж был трезвым, а потому отталкивающий вид его (отросшая борода, сальные волосы, дырявые носки, усеянная пятнами футболка и тренировочные брюки с отвисшими коленями) казался еще более отвратительным. Вот только глаза оставались прежними: грустные, преданные и, нет, не обвиняющие, а пронизанные непониманием. Он смотрел так, как смотрит собака, подбежавшая было за лаской, а получившая незаслуженный пинок. И подумалось Дине, что это не чужой, хриплый голос задал ей вопрос, а знакомые, родные глаза спросили: