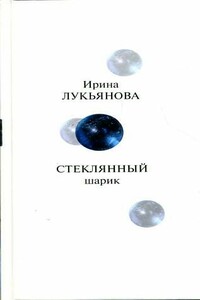В упомянутых итоговых заметках «Русская литература» 1908 года Чуковский пытался нащупать ясную доминанту творчества российских писателей и находил ее в «Моих записках» Леонида Андреева: «Жизнь – это тюрьма». «Писатели наши в этом году, словно сговорившись, отбросили все мелкие вопросы и решали главный: что есть жизнь? И, словно сговорившись, отвечали: кошмар. И, словно сговорившись, спрашивали: как уйти от кошмара? И наперебой отвечали – каждый свое, и каждый для себя. Делали дырку в стене, не одну, а тысячу дырок, и говорили: вот. Читателю же нужна не тысяча дырок, а одна большая, общая для всех, общий выход, общее освобождение – и потому он относится к современной литературе полупренебрежительно и легкомысленно в высшей степени». Добавим, что у Чуковского были свои ясные представления о том, что это за один большой общий выход. В 1900-х годах он, разумеется, не мог написать в статье слова «революция», поэтому говорил об «освобождении», о «демократии».
В конце мрачного десятилетия к печальным симптомам социального неблагополучия добавился еще один, куда более страшный, чем все остальные. В России стало расти число самоубийц. В статье, посвященной этому общественному явлению, Чуковский приводит собранную врачом Дмитрием Жбанковым статистику, опубликованную в журнале «Современный мир»: в Петербурге в 1905 году было совершено 205 покушений и самоубийств, в 1908 году– 121 в месяц и в 1909-м – 199 в месяц; то есть не в «пять с лишним раз больше», как писал «Современный мир» и цитировал Чуковский, а (возьмите калькулятор!) в 7 и почти 12 раз больше.
Чуковский заговорил об этом явлении, когда оно еще не приняло эпидемических масштабов, и возвращался к нему все чаще. Сообщения о самоубийствах стали привычной темой отдела хроники ежедневных газет, вопрос о самоубийстве немедленно подняла и литература, причем вставал он не только в творчестве существующих во все времена вычурных молодых людей. «Большая литература» уже несколько лет говорила о смерти (что тоже отмечал Чуковский), но это была Смерть с большой буквы, смерть-загадка или смерть-избавительница… и вдруг она стала смертью-соседкой. Жизнь как-то внезапно опротивела всем и сразу, и расставание с ней стало даваться поразительно легко. К. И. видел в этом закономерность: нежелание жить следует за разрушением идеологического фундамента общества, вслед за девальвацией ценностей происходит обесценивание жизни.
Может быть, поэтому Чуковский счел таким знаменательным явлением публикуемые журналом «Сатирикон» стихи Саши Черного (Александра Гликберга) – в них, как в фокусе линзы, собрались в точку и ярко высветились все те черты современного интеллигента, о которых без устали говорил К. И.: тоска и душевная усталость, отказ от «внешних» социальных устремлений и всецелая поглощенность собственной пустотой. (Кстати, в статье «Юмор обреченных» критик назвал «Сатиры» Саши Черного «песнями самоубийцы».) О том же духовном банкротстве интеллигенции размышляли и авторы вышедшего в 1909 году сборника «Вехи», сразу вызвавшего ожесточенную полемику в печати. Чуковский в «Современных Ювеналах» и обзоре литературы за 1909 год вперемежку процитировал Сашу Черного и Гершензона, утверждая, что оба говорят об одном и том же: «А ведь главный мерзавец – я!»
К «Вехам» Чуковский отнесся скорее отрицательно, хотя в определенной диагностической точности им не отказывал. «В том-то вся и суть, повторяю, что „Сатирикон“ – это „Вехи“, а Саша Черный – это Гершензон, – интриговал читателя Корней. – И даже „Сатирикон“ важнее, показательнее „Вех“, потому что „Вехи“ – это уже рецепты и диагнозы, а „Сатирикон“ – это еще слепая боль. Рецепт, он может солгать, но боль ведь не лжет никогда».
Блоковский «подземный гул» и Чуковский, и авторы «Вех» уловили одновременно. Но если Чуковский радостно приветствовал тот день, когда «они» победят «нас», и Блок ожидал того же дня с гибельным восторгом обреченного погибнуть в буре, то инициатор создания «Вех» и один из авторов сборника Михаил Гершензон с ужасом предупреждал: «КАКОВЫ МЫ ЕСТЬ, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной». Удивительно, что и здесь российское общество умудрилось увидеть не горечь и обличение, а охранительский пафос и ренегатство.