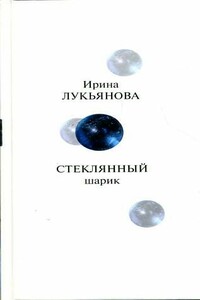В первом номере «Сигнала» читателю предлагали написать буриме «на современные темы», давая рифмы «реформа-проформа, манифест-протест-арест, конституция-проституция, губернатор-провокатор, резолюция-экзекуция, Иоанн-хулиган».[6] Удивляли уроками французского: «сотня – cent, черная сотня – million, хулиган – le chuligan, хулиганы – la manifestation patriotique». Чем заканчивались патриотические манифестации черной сотни, все еще слишком хорошо помнили. О погромах «Сигнал» тоже писал – например, в «Телеграммах с театра войны»: «Ростов-на-Дону. 12 ноября. Убиты: Яков Финкелыптейн 2 лет и Сора Крумер 3 лет. С нашей стороны потерь нет».
Любопытно вот что: интеллигентная редколлегия журнала ничего не имела против террора, если он направлялся против властей. Чуковский призывал «наточить топоры», оговаривая, правда, как уже говорилось, что это цитата из Уитмена. В первом номере появился рецепт бомбы: «Берут скверного министра, двух хороших лошадей, одного кучера и оставляют четыре колеса». В третьем – «Перехваченное письмо» редактора автору: «М. Г. В присланных Вами стихах на злободневные мотивы не только нет смысла, но даже и рифма отсутствует. Вы, например, рифмуете «Кирилл»[7] и «стрелял». По нашему мнению здесь было бы лучше: «убил» или «застрелил» или что-нибудь в этом роде. Если «стрелял» – то уж лучше «наповал». В первом номере «Сигналов» изображалась могилка «болярина Вячеслава», умершего в 1904 году, – то есть министра внутренних дел Плеве, убитого эсером Сазоновым, догадывался читатель. По забору вокруг могилы вилась немецкая надпись: «Hier liegst der Hund begraben» – «Здесь зарыта собака».
Правительству подобный юмор понравиться не мог, и с новорожденными журналами началась борьба. Если раньше неблагонадежные статьи задерживала цензура, то теперь напечатать можно было что угодно – но зато потом за печатное слово приходилось отвечать по статьям уголовного уложения. «Сигнал» писал: «Печатай книги и брошюры, / Свободой пользуйся святой / Без предварительной цензуры, / Но с предварительной тюрьмой». Под судом оказались десятки журналистов. Редактора «Пулемета» приговорили к году крепости. Некоторые пустились в бега. В тюрьме сидели Минский («Новая жизнь»), Ходский («Наша жизнь»), Милюков и Гессен («Свободный народ»), Суворин («Русь») и многие другие. Суворина, правда, освободили под залог в 10 тысяч рублей.
Чуковский успел издать три номера «Сигнала», сдать в типографию четвертый и получить немного денег: «Я выкупил пальто и постель (бинокль так и погиб безвозвратно), уплатил хозяйке за комнату, и ко мне воротилась жена, оставившая ребенка у матери». Уже 1 декабря его вызвали на Литейный к судебному следователю по важнейшим делам Санкт-Петербургского окружного суда Цезарю Обух-Вощатынскому. Следователь предъявил редактору «Сигнала» обвинения в оскорблении величества (ст. 103), в оскорблении членов императорской августейшей семьи (ст. 106), в потрясении основ государства (ст. 128). Все это содержалось только в одном, третьем, номере журнала. Перед Чуковским стояла дилемма – внести залог в размере 10 тысяч рублей или сесть в тюрьму до суда. Всех денег у преступного редактора было три рубля. Популярные верования, что на эту сумму до революции можно было купить корову, совершенно лишены основания, но недорого поесть в течение нескольких дней она позволяла. Для вечно голодного Чуковского сумма в десять тысяч была астрономической, что отмечала даже пресса: такие, мол, деньжищи можно требовать с маститого Суворина, но не с начинающего журналиста.
В итоге начинающий оказался в предварительной тюрьме на Шпалерной улице. Там, судя по позднейшим дневниковым записям, он читал Твена «и хохотал до икоты», переводил Уитмена и Роберта Браунинга, закончил статью об Уитмене для «Весов». Обвинения предъявили и Ольге Чюминой за опубликованные в журнале стихи о принцессе Поль-Мари, но сажать не стали из уважения к летам. К стихам была сноска: «По-венгерски имя ставится не впереди, а позади отчества или фамилии». Разумеется, всякий читатель производил требуемую операцию, получал в результате великую княгиню Марию Павловну и к ней уже относил строки о том, что она не блещет чистотой, что ей не по плечу горностаевое манто: «Средь измен перед страною, что должна мне быть родною – я в грязи его влачу». Это стихотворение и подпало под статью 106.