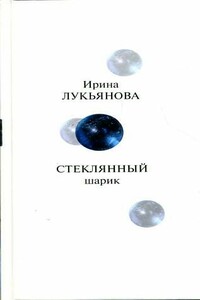Мемуаристами подробно описаны его привычки и его распорядок дня в эти последние годы: утром он рано встает, часов в пять – если вообще смог заснуть. Работает: старается как можно лучше использовать те отрезки времени, когда голова ясная. Встречает приходящего секретаря. В хорошую погоду работает на открытом балконе, в плохую – на застекленном, который в доме звали «кукушкой»: сидит, укрывшись пледом, и пишет, положив на колени дощечку-планшет. Ближе к полудню ложится отдохнуть. Н. Чернышевская вспоминала, что даже сестра-хозяйка в переделкинском Доме творчества с важностью рассказывала ей о распорядке дня Чуковского: «Перед обедом (в два часа) заканчиваются все литературные занятия, в девять часов вечера он ложится спать. В промежутке между двумя и десятью часами у него бесконечные посетители». В девять вечера начинается изнурительная борьба с бессонницей: ему читают вслух, он принимает снотворные, иногда, так и не уснув, садится за стол и снова пишет…
Иногда он сам шел в Дом творчества или гулял по Переделкину, взяв с собой гостей. С некоторыми шел на кладбище (там он бывал каждый месяц 21-го числа – в «день Марии Борисовны»). Провожал на станцию. Предлагал спутникам погадать по поездам: четное число вагонов – хорошо, желание сбудется. А нечетное – плохо. И по электричкам гадать нельзя. Почему же нельзя, спросил его Александр Раскин. «Паровоз очень важен, – серьезно ответил Чуковский. – Если число вагонов нечетное, то я прибавляю к ним паровоз. Я же вам говорил, что такое гаданье верное дело! В моем возрасте, знаете ли, рисковать не хочется… Уж гадать, так наверняка!»
Домашние вспоминают его элегантность, умение красиво одеваться – особенно заметное на фоне мешковатых сограждан; Чуковский даже после восьмидесяти лет не выглядел стариком – и всегда был корректен даже в одежде: никаких мятых пижам, расстегнутых рубашек, как у братьев-писателей: пиджак или жилет, даже дома к обеду.
Маргарита Алигер писала: однажды летним вечером они уже попрощались с К. И. у калитки, она оглянулась на какую-то его реплику… "Он стоял, прямой, стройный, седой, в светло-сером костюме, освещенный закатом, и это выглядело удивительно живописно.
– Господи, Корней Иванович, какой вы красивый! – невольно воскликнула я.
Двумя-тремя гигантскими прыжками преодолев несколько метров, отделяющие нас, Чуковский схватил мою руку и начал целовать ее, приговаривая при этом:
– Говорите, говорите, всегда говорите мне такие слова!"
1968 год во всем мире был неспокойным: в Америке громкие убийства и молодежные протесты, во Франции студенческие волнения… В СССР политический год начался с суда над диссидентами Галансковым, Добровольским, Дашковой и Гинзбургом; интеллигенция протестовала. Чуковский пишет в дневнике: «Таня Литвинова опять: написала негодующее письмо в „Известия“ по поводу суда над четырьмя и опять стремилась прорваться в судебную залу вместе со своим племянником Павлом. Мне кажется, это – преддекабристское движение, начало жертвенных подвигов русской интеллигенции, которые превратят русскую историю в расширяющийся кровавый поток. Это только начало, только ручеек».
Павел Литвинов и Лариса Богораз обратились к обществу с воззванием: «Граждане нашей страны! Этот процесс – пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас».
В новосибирском Академгородке с концертами выступил Галич, и пленки с его песнями разошлись по всей стране. Солженицын закончил «Архипелаг ГУЛАГ». Каверин написал Федину резкое письмо по поводу непечатания «Ракового корпуса». Начала выходить «Хроника текущих событий». Мелкие ручейки постепенно сливались друг с другом в общий поток.
Весной К. И. написал одну из своих последних критических работ – «К спорам о „дамской повести“». В статье он защищал повесть И. Грековой (псевдоним Елены Вентцель) «На испытаниях» от нападок филолога Льва Скворцова. Скворцов, когда-то помогавший Корнею Ивановичу работать над «Живым как жизнь», неожиданно обрушился на И. Грекову с критикой, назвав ее повесть «На испытаниях» «дамской». Надо заметить, что повесть эта сразу после выхода удостоилась шести отрицательных рецензий в центральной прессе. Главные предъявляемые к ней претензии были идеологическими: «клевета на советских воинов», «нарушение сложившихся национальных отношений» и так далее; рецензия Скворцова фактически помогала обвинителям: раз художественный уровень низкий – значит, это не литература, а пасквиль.