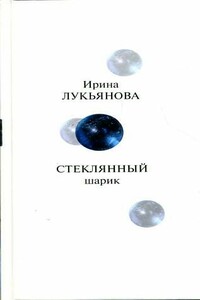Здесь он впервые в жизни столкнулся с массовой системой обработки сознания. В переделкинском доме почти не включали телевизор, не слушали советское радио (Би-би-си слушали часто). А в больнице он из года в год наблюдает за разными способами оболванивания человека – как по воле вышестоящих, так и по личному желанию.
«Впервые в жизни слушаю радио и вижу, что радио – „опиум для народа“, – писал Чуковский однажды. – В стране с отчаянно плохой экономикой, с системой абсолютного рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты выдаются за общие факты – рабскими именуются все режимы за исключением нашего. С таким же правом можно сказать: газета – опиум для народа. Футбол – опиум для народа. А какие песни – всё бодряцкие – прикрывающие собою общее уныние».
Он с тоской слушает разговоры отдыхающих. Отдыхающие бездельничают, скучают, получают «сверхпитание, сверхлечение» – которые К. И. может себе позволить потому, что он лауреат, орденоносец и автор самых покупаемых в стране детских книг – но в памяти свежо, в каких больницах лежали Ахматова и Пастернак, гордость страны! Тоску вызывает у Чуковского и общение с представителями братских стран, строящих социализм: упертые, ограниченные, они свято верят в революцию и, к примеру, принципиально не желают ничего знать о культуре Англии, потому что это – страна – ко лонизатор.
"Упрощенчество страшное, – пишет Чуковский после опыта такого общения. – Подлинно культурные люди окажутся вскоре в такой изоляции, что, напр., Герцен или Тютчев – и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. Новые шестидесятые годы имеется в виду повторение 60-х годов XIX века. – И. Л., но еще круче, еще осатанелее. Для них даже «Pop literature» слишком большая вершина. Две-три готовых мыслишки, и хватит на всю жизнь".
Обилие таких людей, их полная глухота к культуре его ужасают. Новая порода людей выведена. Страна человечьего счастья, строительству которой так много было отдано душевных сил, обернулась жуткой фантазией Гойи: насильственный сон разума породил миллионы чудовищ разных мастей.
Чудовищно руководство, «бюрократический Олимп»: «Раньше всего все это недумающие люди. Все продумали за них Маркс – Энгельс – Ленин – а у них никакой пытливости, никаких запросов, никаких сомнений. Осталось – жить на казенный счет, получать в Кремлевской столовой обеды – и проводить время в Барвихе, слушая казенное радио, играя в домино, глядя на футбол (в телевизоре). Очень любят лечиться. Принимают десятки процедур».
Чудовищно население, которое по воле этого обитателей этого Олимпа обрабатывают средства массовой информации до полного одурения: "Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио, и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни – дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. И массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни, и никто не знает Пушкина, Боратынского, Жуковского, Фета, никто.
В этом океане пошлости купается вся полуинтеллигентная Русь, и те, кто знают и любят поэзию, – это крошечный пруд".
И даже лучшие люди, которых он встречает среди своих санаторских соседей, – даже они ограблены, насильно лишены тех единственных сокровищ, которые только и кажутся ему ценными. В последний год своей жизни он с горечью писал об одной из своих больничных соседок:
"Разговаривать с ней одно удовольствие – живой, деятельный, скептический ум.
Но… она даже не предполагает, что в России были Мандельштам, Заболоцкий, Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев, в ее жизни пастернаковское «Рождество» не было событием, она не подозревала, что «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» – наша национальная гордость. «Матренин двор», «В круге первом» – так и не дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них.
Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательнее приглядываться к ней и понял, что это результат специальной обработки при помощи газет, радио, журналов «Неделя» и «Огонек», которые не только навязывают своим потребителям дурное искусство, но скрывают от них хорошее <…>. Словом, в ее лице я вижу обокраденную большую душу".