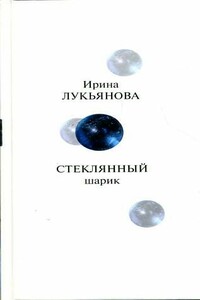Лекцию о Некрасове Чуковский читал по-русски. Вначале удивил: «Я продемонстрирую вам одно очень плохое стихотворение». «Естественно, что у аудитории ушки на макушке, – рассказывает Марина Николаевна. – И он наглядно поясняет, как после многих переработок стихотворение „Буря“ через три года из плохого превращается в отличное». Чуковский показал – на примерах, записями на черной доске, убедительно и непреложно, как из мусора рождаются гениальные стихи, как виртуозно владеет Некрасов техникой стиха. «Никто никогда не читал такой увлекательной лекции, – говорили слушатели. – На подобных лекциях обычно просто спят»".
«Я… прославил нашу советскую науку, наше литературоведение, назвав имена акад. Алексеева, Макашина, Машинского, Скафтымова, Вл. Орлова, Оксмана, Зильберштейна и многих других русских исследователей литературы», – писал К. И. в дневнике. Дневниковый рассказ о торжественном дне продолжается: «Вернувшись, я предложил Марине пройтись переулками перед сном. Тихие средневековые стогны – и вдруг из одного домика выбегает возбужденная женщина и прямо ко мне: „Мы воспитались на ваших книгах, ах, Мойдодыр, ах, Муха-Цокотуха, ах, мой сын, который в Алжире, знает с детства наизусть ваше ‘Тараканище'“, – вовлекла меня в дом и подарила мне многоцветный карандаш». Ночью он так и не заснул, пишет Марина Николаевна, хотя она долго-долго читала ему Диккенса.
Чуковский ходит в гости, встречается с профессорами, делает официальные визиты – и не спит, не спит, не спит. «Такое времяпрепровождение не может кончиться добром для восьмидесятилетнего Корнея Ивановича – я это отлично понимаю, – пишет Марина Чуковская. – На каком-то приеме он простудился, как я и боялась. Кашель, горло, температура». Простуженный Чуковский поехал в Лондон – а там новые встречи, новые люди, лица, разговоры; к нему, «напичканному лекарствами», по выражению спутницы, пришли студенты русского отделения университета – он лежал под одеялом, они сидели повсюду: «на ковре, на стульях, на подоконнике». Не вполне поправившись, он едет в Лондонский университет: прием, затем лекция; профессор Кембриджа сравнила его с дедушкой Крыловым; "потом два часа я с упоением читал свои стихи под гром аплодисментов, потом импровизированная лекция о стиле Некрасова, потом – воспоминания о Маяковском. Success[24] небывалый, неожиданный". Затем еще одна лекция, и еще выступления, и встречи, и запись для Би-би-си…
В один из этих дней он вечером подошел к закрытому уже Британскому музею. Разговорился со сторожем. Рассказал ему, что шестьдесят лет назад работал в библиотеке. Сторож впустил его. «Растроганный вернулся он назад». Таких неожиданных экскурсий в прошлое за эту поездку было немало. Чуковские стали свидетелями парада ветеранов Первой мировой: старики шли с трубами и барабанами почтить память погибших товарищей.
"Корней Иванович снял шляпу…
– Мои ровесники, – проговорил он. – Остатки моего поколения…"
На той же прогулке они увидели памятник Георгу V – королю, на приеме у которого молодой Чуковский был в 1916 году. Заходила с визитом Мария Будберг – «роковая женщина» Горького и Герберта Уэллса, знакомая с Чуковским по «Всемирной литературе». Он поехал в Эдинбург – тосковал там, скучал, лекции не удалось организовать как следует… но вдруг там встретился человек, помнящий дореволюционную Куоккалу, – и они наперебой вспоминали и вспоминали.
Прошлое, отрезанное ножом революции, отделенное государственной границей и железным занавесом, вдруг вернулось щедро и неожиданно; больше того – жизнь будто преподнесла ему реализовавшийся альтернативный вариант судьбы. Оксфордская степень, чинные беседы с умницами-профессорами о Россетти, Суинберне и Уайльде; встречи с удивительными интеллигентными детьми, знающими латинские склонения; неторопливые прогулки по старинным улицам, где цветут розы, а жители по вечерам выставляют к дверям пустые бутылки для молочника; где «божественные лужайки, сверхъестественной красоты деревья», «вкуснейшая еда, молчаливые лакеи», «чопорные доны» в средневековых одеяниях; голуби на Трафальгарской площади, «арабы в бурнусах, индийцы в чалмах, негритянки, негритята и негры»… Это – вариант судьбы, какой она могла быть: без вечного идеологического пресса, без преследований и издевательств; искушение несостоявшейся альтернативой: подумай, переоцени, признай, что ты был неправ; здесь – другой мир, цивилизация, разговоры о Гомере и Сафо… Жизнь возвращает его к началу, к поворотным точкам, закольцовывает судьбу, как стихотворение: подумай, подумай.