— Теперь, Виктор Антонович, такой вопрос: вы что-нибудь когда-нибудь слышали о человеке по фамилии Боуза? Его зовут Эмилио Фернандес.
— Теннисист, что ли, Сан Борисыч? Ой, да чего ж это я несу! Тот же Эмилио Санчес, ага. А этот ваш Фернандес, да? — не, не припомню, чтоб от кого слышал. Незнакомый он мне.
Вот как получается: была, значит, у банкира Алмазова такая тайна, о которой даже его личный телохранитель и шофер не догадывался.
— Ну хорошо, оставим это. Расскажите теперь о своей поездке в Висбаден. Почему вы выбрали именно этот город, который, по-моему, действительно находится где-то у черта на куличках? А разве в Москве больше в карты не играют?
— Да вы что, Сан Борисыч! — с глубоким укором развел руки в стороны Кочерга, будто в вопросе прозвучало абсолютное непонимание совершенно элементарных вещей. — Да разве ж можно сравнивать?! Там же культура! Понимаете? А с нашими, извините, отечественными каталами разве можно вообще связываться? Еще раз извините, но тут и говна нахлебаешься — во! — он чиркнул ладонью над своей макушкой. — А потом эти падлы еще и башку тебе оторвут. Чтоб не вякал. Не-ет!.. Там культура! Представляете, обстановка? Мужики в ливреях — это обслуга. Дринки всякие, кофеюшники, тишина, дамочки забавные, престарелые. Я с крупье выражаюсь исключительно по-английски: ну там «дабл-даун», мол, или — «сплит, плиз». А? Да для меня там рай земной! Жена моя Нина Васильевна никак не хотела понять. Можно сказать, терпеть не могла мои вояжи. Только если по чести, Сан Борисыч, то я ей и не говорил про свои поездки туда, в Германию. Потому что, как я понимаю, если б она про это дело узнала, то тогда мне и ее пришлось бы брать с собой. А какой же, извиняюсь, тогда кайф? Я, получается, за столом, а она — в вестибюле? Она ж карты на дух не подпускала. Поэтому и ушла от меня. А я посмотрел, поездил, пожил холостяком и понял, что мне и без нее тоже плохо. Я ведь знаю, как она ко мне всегда относилась, прежде-то… Так все враз не разрубишь. Ей без меня тоже, полагаю, несладко, Сан Борисыч. Вы ж видели ее, как?
Турецкий неопределенно пожал плечами, выражая этим движением все что угодно.
— Вот видите, — по-своему понял Кочерга и вздохнул. — И я то же самое думаю…
Работал магнитофон, наматывая на себя долгую исповедь Кочерги, и Саша внимательно слушал, как он в течение целой недели ездил из Хёхста, то есть юго-западной оконечности города Франкфурта, где он жил в недорогом пансионате, к четырем часам в Висбаден, что расположен в тридцати километрах от финансовой столицы Германии, и затем просиживал за картами до двух ночи, иными словами, до закрытия. Кочерга сам загорелся от своих недавних впечатлений, глазами засверкал, руки как-то странно ожили: хорошо ему, оказывается, подфартило — то «блэк-джек» через раз идет, то на «сплит» сразу двести марей взял, и пошло, и поехало…
— Ну, как семь тысяч дэмэ сделал, решил судьбу не искушать.
— А что такое — дэмэ?
— Так дойчемарки же! — как ребенку, объяснил Кочерга.
«Действительно, странные люди, элементарных вещей не знают!..»
— Сижу я, значит, в баре на Цайле, улица там у них шикарная такая, пью черное пиво и думаю о том, что мне вообще-то пора бы двинуться к своему партнеру. И тут вижу: двое. Наши. Их за версту узнаешь, нюхом. Хотя никто из наших теперь золотых зубов не носит. Я вот тоже соорудил себе фарфоровые, — Кочерга оскалился в голливудской улыбке. — Ничего, Сан Борисыч?
Турецкий криво усмехнулся: вечная история с этими зубами: забыл же, успокоился вроде, так надо напомнить…
— Это у меня там доктор один есть, еврейчик, тоже из наших, — пояснил Кочерга. — Нёма Финкель его зовут. Раньше жил где-то под Могилевом, а теперь довольно недорого и, главное, вполне добротно вставляет многим нашим фарфоровые коронки. По чужой, конечно, страховке. Вот он и мне тоже за сотню марей, ну, дэмэ, понимаете? — сработал. А вообще, я вам скажу, Сан Борисыч, выгодное это у него дело: там же не только эмигранты разные, но и наши совки пасутся. У Нёмы, как я знаю, клиентура богатая, он никому не отказывает.
— Где, вы говорите, он живет-то?
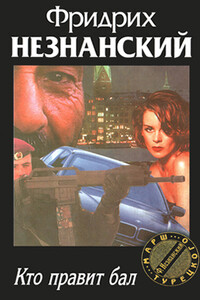
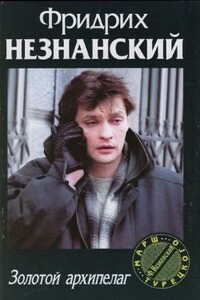
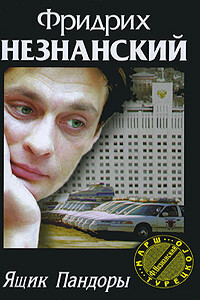

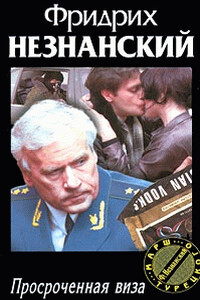

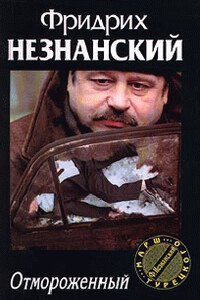
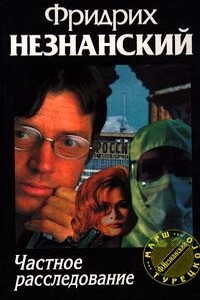
![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)


![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)