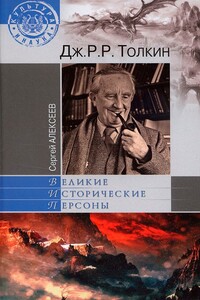К Толе Мукомолову приехала в отпуск жена, и на время ее приезда Толя снял комнату, а после отъезда снова поселился с нами. По утрам Толя приходил на стройку, а к концу работы у нас появлялась его жена. Все вместе шли обедать, а потом — на прогулку. Жену звали Дюся, оказалось — ее полное имя Надежда. Дюся — изящная и смугловатая, с черно-пепельными волосами. Мотя и я признались друг другу, что при знакомстве с ней ожидали, что она окажется чопорной и капризной, и ошиблись: просто она была немного застенчивой и малоразговорчивой. Однажды на прогулке Мотя спросил ее — она и родилась в Москве?
— Да. А что?
— По внешности вы южанка. Выговор у вас скорее питерский, чем московский. И в моем представлении все москвички — разбитные.
— Моя бабушка — цыганка из известного московского хора — отсюда моя внешность, моя мама — родом из Питера — отсюда мое произношение, что касается того, что все москвички — разбитные, то знаете, Мотя, если вы встретите очень разбитную москвичку, то не сомневайтесь, что она — приезжая, во всяком случае, родом не из Москвы. И потом еще вот что: нам все китайцы — на одно лицо, и, наверное, китайцам все мы — на одно лицо.
— Мотя, теперь понял, — спросил Женя, — что ты китаец?
Мы находим, что уменьшительное Дюся Толиной жене куда больше подходит, чем Надя.
— Когда я была маленькой, — объяснила Дюся, — меня называли Надюшей, а я говорила — Дюся. Так это имя ко мне и прилипло.
Когда мы совсем освоились, Женька называл Дюсю нашей женой. Дюся хохотала, Толя растерянно смеялся.
Я ни о ком не берусь судить по почерку или походке, но смех и выражение лица, — ведь говорят же: глаза — зеркало души, — для меня имеют первостепенное значение. Люся смеялась так же однотонно, как разговаривала — приоткрывала рот и, не шевелясь, произносила ха-ха-ха-ха, чуть хрипло и с одинаковыми интервалами. Раз, когда она смеялась, я закрыл глаза и представил себе большую куклу, которая вместо того, чтобы говорить «мама», выдает смех. Мне стало неприятно, и я в растерянности думал: идеализирую ли я Люсю или, наоборот, придираюсь к ней, придерживаясь какого-то выдуманного критерия для оценки человека?
Жора Пусанов по вечерам стал пропадать, и часто мы ложимся спать — его нет, просыпаемся — он есть. Мы не расспрашиваем Жору и не обсуждаем его — в нашей мужской компании это не принято. Но вот как-то утром во дворе у крана, — кто умывается, кто обтирается, кто обливается, — Жора, растираясь, глядя на Мотю и сияя, говорит нам:
— А Мотя ходит — цветочки нюхает. Мы это замечание пропустили мимо ушей, а позднее Женя спрашивает Мотю:
— Чего это Жорка прошелся насчет тебя и цветочков?
— А я вчера вечером его встретил. И, — ладно, уж скажу, — знаете с кем? — Мотя смотрит на меня, — с соседкой твоей мамы. Ну, вы же все на нее обратили внимание, когда мы там столовались, — молодая, интересная. Я еще заметил, что твоя мама и она не здороваются и не разговаривают — не знаешь почему?
— Я понятия не имею.
— Губа не дура, — говорит Женя. — Я у Ксении Николаевны спросил о ней — кубанская казачка.
— Казачка, так казачка, — говорит Моня. — Красивая, ничего не скажешь. Непонятно только чего они от нас прячутся. Толя со своей Дюсей не прячется, Петя с Люсей не прячутся, а Жора свою казачку прячет. Боится, что отобьем?
— Не ты ли отобьешь? — спрашивает Женя.
— Она не пойдет ни в нашу компанию, ни в какую — замужем, и у нее ребенок, — говорю я.
— Ух, ты! А кто ее муж?
— Кто он по специальности — не знаю. Ему не меньше сорока лет. Да вы его видели.
— Это тот полный пожилой еврей, сосед? — спрашивает Моня.
— Почему ты думаешь, что еврей?
— Ну! Чтоб я не узнал еврея! Правда еврей, Мотя?
— Не уверен. Может быть и еврей, может быть армянин, может быть еще кто-то.
— Ну, вот, завели: еврей — не еврей, — говорит Женя. Какая разница? Кто бы он ни был — ему не позавидуешь.
— Вчера, когда мы встретились, — говорит Мотя, — Жора сделал вид, что меня не знает.
— Ну, и дурак! — сказал Женя и захохотал. — Можно подумать, что она на Мотю не обращала внимания. Она на него посматривала. Мотя, только честно, — посматривала?