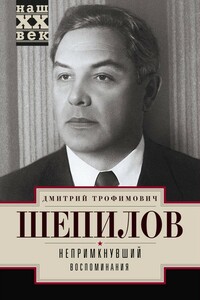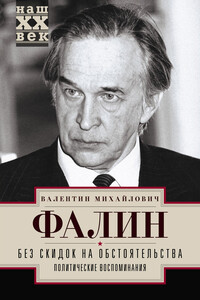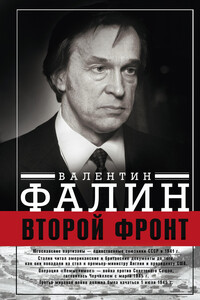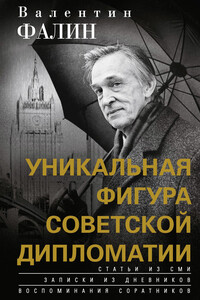История не заставила долго упрашивать себя в подготовке вердикта: быть двум германским государствам или можно удовольствоваться одним? Активная часть граждан ГДР неплохо читала по-русски и, заручившись авансами, выразимся так, заинтересованных кругов ФРГ, занялась прощупыванием, нельзя ли чего извлечь из признания Москвой права каждого народа определять свою судьбу и строй, при котором он хочет жить. Предназначенное для «верхов» предупреждение Э. Хонеккеру, сделанное летом 1989 года: в случае конфликта властей ГДР с населением Республики советские солдаты останутся в казармах, – «низы» каким-то образом уловили, и приходится лишь удивляться, что начало капитализации подзатянулось.
После московской встречи М. Горбачева с Э. Хонеккером в июне 1989 года я лелеял одну надежду и не расставался с одной иллюзией: неизбежные перемены в ГДР совершатся без кровопролития и подпиравшее «старую гвардию» молодое поколение в Социалистической единой партии Германии удержит Республику от срыва в хаос. Эти два момента присутствовали во многих беседах с генеральным. Что до недопущения насилия, советская сторона на всех обозримых для меня уровнях четко проводила в жизнь установку: определяясь в своих действиях, руководители и функционеры ГДР должны знать, что СССР не считает насилие приемлемым способом стабилизации обстановки и в случае использования силы инициаторы могут рассчитывать только на себя. Легенды и инсинуации, которые время от времени запускаются в оборот и приписывают советским участникам событий бурной осени 1989 года противную позицию, не имеют ничего общего с истиной.
Имелся ли на горизонте политик, который располагал достаточным доверием, чтобы с видами на успех развернуть летом – осенью 1989 года глубокое реформирование ГДР? Не хочу никого обидеть, отметив, что Республика нуждалась в варягах. Колоссальным авторитетом пользовался Горби. Смени гражданство и поклянись на Библии, он смог бы, пожалуй, содействовать консолидации Республики, хотя поручиться за это, памятуя содеянное им в Советском Союзе, нельзя. Отличный рейтинг в Восточной Германии имел В. Брандт, но от него ждали бы, что он поведет дело не к демократической перестройке ГДР, а прямиком к ее соединению с Федеративной Республикой. Г. Коль владел «королевским флешем» – властью и деньгами. И не только. Выступив с «программой из 10 пунктов», он прочно взял в руки инициативу, которую не уступал никому до 3 октября 1990 года.
Выбор пал на Эгона Кренца. Он оправдал его тем, что не допустил перехлестов, чреватых насилием. Вместе с тем передача три месяца спустя заглавной роли Х. Модрову показывает, что не всякий вариант, первым приходящий на ум, является наилучшим. К тому же он может стоить невосполнимо дорого. Тут не была должным образом заполнена пауза перед тем, как начался сплошной, лавинообразный обвал.
К концу 1989 года для неглухих и зрячих стало очевидным: история спрессовала 100 лет в 100 дней. Самоопределение немцев в ГДР состоялось. Политикам досталось расставлять вехи таким образом, чтобы материализация прав одних не нарушила права и интересы других наций. Эту работу предстояло выполнить в отменном темпе. Настроениями в обоих германских государствах овладевало нетерпение. Оно легко могло вылиться в нетерпимость, займись заинтересованные правительства по образцу прежних десятилетий пустопорожними словопрениями.
Стартовая расстановка сил, если смотреть на нее под советским углом зрения, была в чем-то даже обнадеживающей. Г. Коль выступил за конфедерацию. М. Тэтчер рассматривала конфедеративную модель как конечную станцию в достаточно плавном процессе переустройства германо-германских отношений. Ф. Миттеран сочувствовал оговоркам Лондона и был внутренне готов кое-что прибавить к ним. Его демонстративный визит в ГДР свидетельствовал сам за себя. По данным, поступавшим в Москву, Дж. Буш решил выждать. Президента США занимал преимущественно вопрос, как отразятся возможные перемены в Германии на НАТО. Будущие германо-германские отношения как таковые интересовали американцев во вторую очередь.