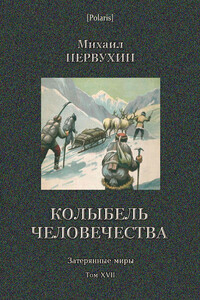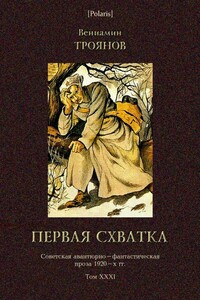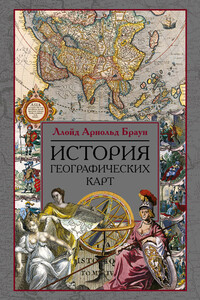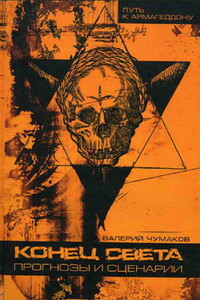— Пришла пора Божья!
И шелест их шагов по высохшей траве словно подшептывал им:
— Пришла, пришла!
Я почувствовал, что по горло сыт удовольствием, испытанным от прогулки, и отправился назад. Минуты через две я оглянулся и проводил глазами стариков; и еще печальнее показались мне на сером фоне поля эти две серые же фигуры, медленно плетущиеся, понурив головы.
Проблуждав некоторое время около дачи, где жила Нина, но без желанного результата, я направился домой.
Проходя по Болотной через лесок, я увидел шедшую мне навстречу старушку в старомодном салопе и с большим ковровым ридикюлем в руках; она, очевидно, несла с собой и на себе все свое достояние. Далекие воспоминания юности, своеобразная тоска по родине охватили меня. Сколько раз в детстве я видал таких старушек и в таких салопах, и с такими же вуалями на лице, и всегда они казались мне не чем иным, как только старушками; а теперь мне показалось, что передо мною — реликвия прошлого, памятник одной из стадий моего развития. И сделалось мне так грустно, так грустно, как будто в образе этой старушки я увидел самого себя.
Где вы, золотые сны моей юности, где обольстительные мечты и широкие планы первокурсника-студента? Минуло только пятнадцать лет, а мне кажется, будто пятнадцать веков стоят между нами. Боже мой, Боже мой, где та наивная вера сердца во всемогущество правды, в непреоборимую силу хороших слов и теорий? Все прошло, все разлетелось, как дым, оставив горький осадок разочарования и тихой грусти. Да и могу ли я теперь, через 15 лет, оставив в стороне личные симпатии и антипатии, категорически считать что-либо хорошим или дурным? Где я найду для этого основания, достаточно веские для всех? Наконец, и с моей нынешней точки зрения… Ах, хорошие люди — не так хороши, а дурные — не так дурны, как казалось в 20 лет! Мы узнали закон светотени, рельефы сгладились, Карлы Мооры оказались Рошфорами или лордами Розберри, Францы Мооры превратились в дисконтеров. а Амалии… э, лучше не будем говорить об Амалиях.
От горя я залег спать в 8 часов вечера и спал не так, чтобы очень плохо.
Следующий день был день сюрпризов и притом сюрпризов неприятных: впрочем, сюрпризами их назвать нельзя, ибо все легко было предвидеть.
Прежде всего, я никак не мог дождаться конки, пока не вспомнил вчерашнего разговора с кондуктором и не сообразил, что я не дождусь здесь конки уже никогда. Тогда я отправился к часовне, питая смутную надежду, что найду там извозчика. Их, однако, тоже не было, что являлось вполне логичным фактом.
Приходилось идти пешком; это не очень затруднило бы меня, если не было со мною довольно увесистого чемоданчика. К моей радости, с Большой Спасской показалась тележка, в которой сидели мужик и баба с ребенком на руках; в тележке была разная кладь: узлы с платьем, подушки, самовар, даже ухваты. Баба все всхлипывала и утирала рукавом слезы.
— Не подвезете ли меня?
— А вам куда? — спросил мужик.
— На Николаевский вокзал.
— Можно, мы сами туда едем.
— А что возьмете?
— Да рублик положьте уж: лошадке-то трудно будет.
— Ну, ладно.
Я сел рядом с бабой, чемодан положил на колени (больше некуда было деть), и мы потряслись вниз по Малой Спасской.
Доехав до институтского парка, мужик обратился ко мне:
— Что, барин, уезжаете отсюда?
— Конечно; ведь несладко будет, если прихлопнет сверху, как таракана.
— Вон и мы собрались. Горько было добро свое бросать, ну, да жизнь дороже. А есть, которые не хотят ехать.
— Неужто? Почему же?
— А не верят; необразованность, да и на милость Божию уповают; а которые так говорят: коли быть светопреставлению, так и в Москве пристигнет.
— Ну, напрасно: во-первых, это и не преставление, а просто комета; притом ученые говорят, что только у нас да в Финляндии нельзя оставаться; а за Москвой, пожалуй, все обойдется благополучно.
— Вот и я так говорю; ученые люди, астрономы, они знают, над тем поставлены; предскажут затмение Солнца или Луны, ну и в ту самую минуту, как сказано. Вон и ей говорю.
Он кивнул на бабу.
— Коли б спастись никак нельзя было, так начальство и не приказывало бы уезжать. А то, вишь ты, даром еще повезут.