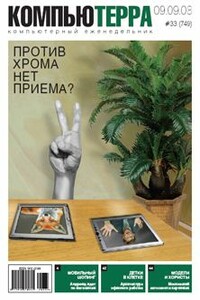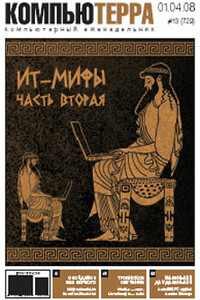тема номера: Либретто для кризиса
Автор: Сергей Голубицкий
Нынешняя тема номера продолжает сериал о влиянии кризиса на ИТ-индустрию, начатый нами неделю назад. Но если
в прошлом выпуске речь шла о материях реальных и осязаемых - товарах, корпоративных бюджетах, рабочих местах, то теперь
фокус внимания сместился в сторону куда более виртуальных миров - мировых финансов и Интернета.
О фиансово-экономическом кризисе, охватившем нашу планету, пишут сегодня не почти
все, а все без исключения. Пишут философы и литераторы, пишут ученые мужи и брокеры, пишут сантехники и домохозяйки
(последние, слава богу, только на блогах!). Оно и понятно - о чем же еще писать, как не о насущном?
C этой
насущности мне бы и хотелось начать собственное кризописание. Дело в том, что так называемый global economic meltdown
осени 2008 года обладает одной любопытной характеристикой, которая проводит качественный водораздел между тем, что
происходит на наших глазах, и тем, что запечатлелось в истории под именами "Биржевой паники 1907 года",
"Великой Депрессии" и "Черного понедельника 1987 года". Водораздельная характеристика современного
финансово-экономического кризиса называется виртуальностью в самом широком смысле слова.
Первый и самый очевидный
знак этой виртуальности - в том, как она отражается на реальной, повседневной жизни граждан. Если на мгновение закрыть
глаза на все существующие СМИ планеты и сделать вид, что ранее предпринятое зомбирование в одно ухо (глаз) вошло, из
другого вышло, то окажется, что финансово-экономический кризис осени 2008 года в реальной, повседневной жизни не
проявляется... никак! Все его реальные проявления складываются из:
истерических криков прессы и телевидения о том,
что "все пропало", что "мир катится в тартарары", что спасения не будет никому и
нигде;
театральных телодвижений государственных институтов, которые под дирижерскую палочку Великого Триумвирата
(Федеральный Резерв США, Казначейство США, Конгресс и Сенат США) и в унисон предпринимаются повсеместно от Исландии до
Японии: бирюльки со ставками банковских резервов, псевдонационализации так называемых системообразующих банков,
координированные выкупы привилегированных акций страховых компаний, номинальное выделение из бюджета гигантских средств
на преодоление кризиса кредитной ликвидности и заморозки ипотечных дефолтов на неопределенное время и на неопределенных
условиях;
иррациональной обывательской паники на улицах, которая выражается в спорадических и ничем не оправданных
runs[Bank Run - паническое изъятие депозитов вкладчиками банка.] на банки.
Можно возразить, что почти все
описанные ужасы (за исключением разве что уникального вмешательства государственных структур в дела частного бизнеса)
имели место и в 1907, и в 1929, и в 1987 годах. Есть, однако, маленькая, но существенная разница - сегодня эти ужасы
существуют на голубом глазу, в типографской краске и воспаленных мозгах обывателей, а раньше - существовали на улице!
Раньше можно было стать на мостовой Уолл-стрит и наблюдать, как живые и настоящие трейдеры, разорившись в одночасье,
выбрасывались из окон величественного здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Раньше можно было постоять на Таймс-сквер и
полюбоваться шеренгами безработных в дорогих костюмах (остатки былой роскоши!) с табличкой на шее: "Согласен на
любую работу!". Раньше можно было проехать по 66-й магистрали вдоль многомильных верениц автомашин, загруженных
выше крыши домашним скарбом, оставшимся после конфискации банками жилища. Машин, транспортирующих своих хозяев на
заработки в солнечную Калифорнию.
Сегодня подобных ужасов не наблюдается и - самое ценное! - наблюдаться не будет,
потому что, повторюсь, финансово-экономический кризис осени 2008 года не является кризисом системным, а является
кризисом виртуальным. Скажу больше: не просто виртуальным, а еще и сознательно инсценированным. В последнем
обстоятельстве я уже не сомневаюсь ни грана, ибо суммарный вес доказательств давно перевалил критическую точку, которая
отделяла врожденно конспирологический склад моего ума от сомнений трезвомыслия.