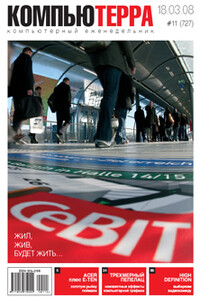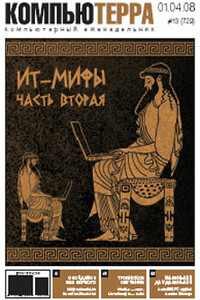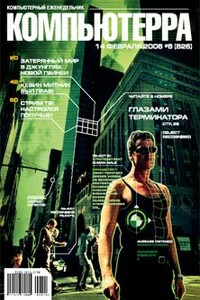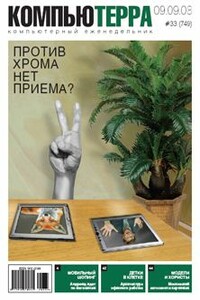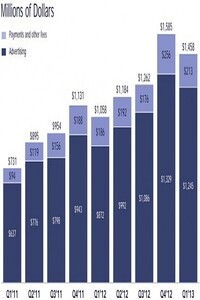О парадигмах, лени и
глупости
Со дня выхода в
свет книги Томаса С. Куна "The Structure
of Scientific Revolutions" (1962)
установилось представление о прогрессе
науки не как о постепенном восхождении к
вершинам истины, но скорее как о
довольно болезненном процессе смены
научных парадигм. Парадигм, примерно
совпадающих по времени господства со
временем жизни (во всяком случае,
активной - в научном поиске) поколения
ученых.
Книга Куна признана одной
из самых влиятельных исторических и
философских работ двадцатого столетия,
но, как и любая научная теория, она не
претендует на описание всех сторон
реальности. Убедимся в этом на
примере.
Рассказывает выдающийся
физико-химик Александр Наумович Фрумкин
(1895-1976), создатель отечественной
школы электрохимиков, действительный
член АН СССР с 1932 года: "При Советской
власти до самой своей смерти профессор
Павлов занимал кафедру физической химии.
(Академик Фрумкин был выпускником
Новороссийского университета в Одессе,
sic! - М.В.) … Последний раз я встретил
его на банкете в честь победы над
фашистской Германией в 1945 году в
Москве. Смотрю, идет наш Павлов,
улыбается мне, забыл уже, сколько
неприятностей доставил мне своими
вздорными теориями. "Познакомьте, -
говорит, - меня с Капицей".
"Пожалуйста", - говорю, подвожу его,
рекомендую. "Петр Леонидович, -
обращается к Капице Павлов, - я ваш
большой поклонник, вы сделали блестящие
вещи в низких температурах. Мы в Одессе
тоже этим занимаемся". Я вижу, Капица
обрадовался: каждому ученому приятно,
когда его работу хвалят знатоки, - но
Павлов продолжает: "А вы знаете, мы
пошли дальше вас. Вы работали при
температурах, близких к нулю, а мы при
температурах ниже абсолютного нуля". Тут
уже Петр Леонидович несколько
переменился в лице и поглядел на меня
довольно неласково…" ["Юность", №5,
1967, с.92.]
С чем мы имеем дело в
этом случае? С устаревшей парадигмой или
с чем-то иным?
Чаще мы имеем дело
с ленью. Ленью и еще с одним явлением, о
котором прекрасно писал пастор Дитрих
Бонхёффер, повешенный 9 апреля 1945 года
в замке Флоссен за участие в заговоре
против Гитлера: "Глупость - еще более
опасный враг добра, чем злоба. Против
зла можно протестовать, его можно
разоблачить, в крайнем случае его можно
пресечь с помощью силы; зло всегда несет
в себе зародыш саморазложения, оставляя
после себя в человеке, по крайней мере,
неприятный осадок.
Против
глупости мы беззащитны. Здесь ничего не
добиться ни протестами, ни силой; доводы
не помогают; фактам, противоречащим
собственному суждению, просто не верят -
в подобных случаях глупец даже
превращается в критика, а если факты
неопровержимы, их просто отвергают как
ничего не значащую случайность. При этом
глупец, в отличие от злодея, абсолютно
доволен собой; и даже становится опасен,
если в раздражении, которому легко
предается, он переходит в нападение.
Здесь причина того, что к глупому
человеку подходишь с большей
осторожностью, чем к злодею. И ни в коем
случае нельзя пытаться переубедить
глупца разумными доводами, это
безнадежно и опасно" [Д. Бонхёффер,
"Спустя десять лет", пер. А. Б.
Григорьева. "Вопросы философии", 1989,
№10, сс.114-167.].
Эти слова
Бонхёффер писал перед Рождеством 1942
года, уже зная, что Главное имперское
управление безопасности (RSHA)
настаивает на его аресте. Бонхёффер не
был случайной жертвой - через него
участники антигитлеровского заговора фон
Штауффенберга пытались связаться с
западными демократиями. В 1942 году в
Швеции он вел переговоры с Джорджем
Беллом, епископом Чичестерским. А тот на
родине наталкивался на бюрократическую
стену молчания - британский министр
иностранных дел Иден не интересовался
заговорщиками - миру Атлантической
хартии была нужна не просто Германия без
Гитлера, но Германия, надолго
переставшая быть реальной экономической
и политической силой.
И вот в этой
экзистенциальной ситуации немецкий
теолог размышлял о глупости: "Можем ли
мы справиться с глупостью? Для этого
необходимо постараться понять ее
сущность. Известно, что глупость не
столько интеллектуальный, сколько
человеческий недостаток… Не столько
создается впечатление, что глупость -
прирожденный недостаток, сколько
приходишь к выводу, что в определенных
обстоятельствах люди оглупляются или
сами дают себя оглуплять. Мы наблюдаем
далее, что замкнутые и одинокие люди
подвержены этому недостатку реже, чем
склонные к общительности (или обреченные
на нее) люди и группы людей… При
внимательном рассмотрении оказывается,
что любое мощное усиление внешней власти
(будь то политической или религиозной)
поражает людей глупостью. Создается
впечатление, что это прямо-таки
социологический и психологический закон.
Власть одних нуждается в глупости
других".